Ансамбль Ростовского митрополичьего двора, именуемый ныне Ростовским кремлем, создан в XVII в. Уже давно, в конце XVIII в. он утратил свою первоначальную функцию. И теперь нелегко представить, какая жизнь протекала в его стенах в XVII столетии. Но без такого представления невозможно правильно понять архитектуру ансамбля. Ведь, как справедливо писал В.Р. Виппер, "Чтобы оценить органический характер здания, недостаточно видеть его пустым, покинутым людьми... Более чем какое-либо другое искусство, архитектура требует, чтобы ее переживали в непосредственном соприкосновении, в реальных условиях ее жизненного назначения".
Разумеется, применительно к Ростовскому митрополичьему двору XVII в., или митрополичьему дому, как он чаще тогда назывался, упомянутые "реальные условия" можно реконструировать, лишь уяснив, какие учреждения составляли митрополичий двор, а также характер деятельности этих учреждений.
В настоящее время мы располагаем достаточно представительным комплексом как архивных, так и опубликованных источников, позволяющих довольно полно, хотя и не всесторонне, раскрыть данную тему. Назовем лишь основные группы документов, использованных в работе: переписные книги Ростова, приходо-расходные книги митрополичьего двора, писцовая книга митрополичьих вотчин, опись митрополичьего дома, многочисленные и разнообразные актовые материалы. Необходимо добавить, что львиная доля перечисленных источников приходится лишь на вторую половину XVII в. Поэтому выводы предлагаемой работы в большей мере соответствуют именно этому периоду истории Ростовской архиерейской кафедры.
Как и все архиерейские дворы XVII в., Ростовский митрополичий дом был не только резиденцией церковного иерарха, но и средоточием управления всей митрополией и митрополичьими вотчинами. На самых высших ступенях "домовой" иерархии стояли казначей, приказной и дворецкий, подчинявшиеся непосредственно митрополиту.
Казначей назначался из черного духовенства. Он ведал, во-первых, митрополичьей казной, которая, как учреждение, была центром всей хозяйственной жизни митрополичьего дома. Кроме денег, в казне содержался архив ценных бумаг, книгохранилище, немалые запасы тканей, посуды, мебели, икон, одежды, оружия, железа, слюды и т. п., словом, всего того, без чего не могло обойтись большое феодальное хозяйство.
Функции казначея были весьма разнообразны. Он участвовал в размежевании земельных владений митрополита и других феодалов, в снабжении митрополичьего двора съестными припасами, выдавал грамоты на построение новых церквей, наконец, ведал приходом и расходом основных денежных средств митрополичьего дома. Казначею был подконтролен казенный приказ - главное финансовое учреждение митрополии. Делопроизводство в нем исполняли светские чиновники: дьяк и двое подъячих. Через их руки проходили все казенные суммы, они вели финансовую документацию, и, в частности, приходо-расходные книги, ежемесячно заверявшиеся дьяком казенного приказа.
В казенный приказ через посольских старцев поступал оброк с митрополичих вотчин, а также деньги от продажи продуктов и вещей из "домовых" припасов. Сюда же стекались "дани" и всевозможные пошлины, взимавшиеся с духовенства епархиальных церквей. Через то же духовенство в казенный приказ шли и налоги с мирского населения, в частности, - за обряд венчания.
Приказной - светский чиновник, являлся высшим должностным лицом "домовой" администрации. Именно его подпись стоит на официальных документах митрополичьего дома. В той или иной мере он контролировал деятельность всех домовых учреждений. В ведении приказного состояло одно из важнейших учреждений митрополии - судный приказ, в котором служило довольно большое число светских чиновников: дьяк и до одиннадцати подьячих, а также немало недельщиков и несколько сторожей. Митрополичий судный приказ имел право судить все духовенство Ростово-Ярославской епархии и мирских людей по делам, которые были вверены церковному суду.
Немногочисленные сохранившиеся документы в общих чертах раскрывают механику судебной деятельности судного приказа. Обычно истец, требовавший судебного разбирательства, писал челобитную на имя митрополита. После предварительного рассмотрения дела за обвиняемым отправляли недельщика, доставлявшего его на суд. После судебного заседания осужденного со специальной "памятью", подписанной приказным, под конвоем недельщика препровождали "под начал", то есть для отбывания срока заключения, в один из епархиальных монастырей.
Судный приказ помимо исполнения судебных функций являлся в значительной степени и центром общего управления митрополией. В нем писались основные указы и распоряжения митрополита, рассылавшиеся затем наместникам, десятским и поповским старостам, которые осуществляли управление обширными округами епархии. Причем, если в середине века среди наместников еще встречаются светские чиновники, то в последней трети XVII в. управление на местах исполняли только духовные лица. В 90-е гг. ХVII в. в Ярославле на митрополичьем подворье стал действовать даже свой судный приказ под управлением ярославского наместника иеромонаха Филарета.
Важно подчеркнуть следующее. Митрополит не был полным хозяином в своих приказах, так как чиновники, работавшие в них, назначались не им, а государством. Это порождало у некоторых чиновников даже чувство полной независимости от власти митрополита, что бывало чревато конфликтами. Вот отрывок из жалобы ростовского митрополита Ионы на домового дьяка Митрофана Микифорова, красноречиво характеризующий такое положение вещей: "По указу великого государя прислан в Ростов в дом пречистые богородицы и ко мне богомольцу Митрофан Микифоров в дьяки на Путилово мести Терпигорева и он Митрофан возгордяс и не хотя быть дьяком и захотел жить самовластно и владеть домом один учал домовым детям боярским и крестьянам и всяких чинов домовым людем налоги чинить болшие и домовые и духовные всякие дела учал делать у себя на дому мимо домовой приказ и не спрашиваяс со мною богомолцом государевым..."
Дворецкий, называвшийся также вторым приказным, был всегда светским лицом. Он, по всей видимости, осуществлял надзор над всей хозяйственной жизнью митрополичьей резиденции. К 1696 г. относится первое упоминание об особом дворцовом приказе. Но каков был его штат - не известно.
Наиболее важными отраслями домового хозяйства управляли особые старцы. Конюшенный старец руководил конюшенным двором, в котором служило 8-11 конюхов. В ведении житенного старца находились житницы - большие деревянные амбары, где хранилось митрополичье зерно. Сушильный старец заведовал сушилами - многочисленными кладовыми, в которых скапливались огромные запасы продовольствия "про домовый столовый обиход" и другие необходимые в хозяйстве вещи. Чашник-старец распоряжался домовыми погребами - хранилищами различных напитков, и, по-видимому, пивоварней. Келейный старец с несколькими келейниками обслуживал самого митрополита. Ризничий дьякон с двумя подьяками были хранителями богатейших церковных облачений в митрополичьей ризнице.
Кроме того, на домовой поварне трудилось 6-7 поваров; в приспешне (пирожне) - 5-7 пирожников; в хлебне - 3-5 хлебников; в кузнице - 6-9 кузнецов. Митрополичью столовую обслуживало до 4-х стольников и скатертник. Имелись свои плотники, столяры, истопники, сторожа, портной, садовник и т. п.
Значительную часть домового штата составлял клир церквей митрополичьего двора. Особенно большую роль в жизни двора и всей митрополии играло духовенство кафедрального Успенского собора. Так, вплоть до 1676 г. через соборного протопопа священникам выдавались грамоты на построение новых церквей.
Митрополит имел и своих дворян - "детей боярских" (18-25 человек). Многие из них принадлежали к родам, представители которых из поколения в поколение на протяжении всего XVII в. служили ростовским митрополитам, наделявшим их поместьями в своих вотчинах. Дети боярские не только охраняли митрополита, но и исполняли всевозможные поручения по управлению епархией, митрополичьими вотчинами, по делам, касающимся митрополичьей резиденции. Именно из среды детей-боярских выдвигались высшие должностные лица митрополичьего дома, например, приказные.
Теперь, когда мы в общих чертах выяснили организационно-управленческую структуру Ростовского митрополичьего двора XVII в., а также основные функции его учреждений, попытаемся определить, как данные структура и функции повлияли на формирование архитектурного ансамбля митрополичьей резиденции.
Что сразу бросается в глаза - организационно-управленческая структура митрополичьего двора во многом определила характер планировки его ансамбля. Разумеется, не случайно именно на главном центральном дворе ансамбля, кроме храмов, выражающих собой прежде всего культовую сущность митрополичьей резиденции, расположились здания, в основном предназначавшиеся для наиболее значительных домовых учреждений. Это, в частности, митрополичьи хоромы - самое большое и представительное гражданское сооружение ансамбля. Оно с предельной наглядностью выражает главенствующую роль митрополита в домовой иерархии. Не случайно митрополичьи хоромы расположены напротив святых ворот - главного входа на центральный двор.
Характерно, что в том же здании находились не только митрополичьи покои, но также и два важнейших учреждении митрополии - казна и казенный приказ. На противоположной стороне центрального двора было построено здание, предназначавшееся для другого важнейшего учреждения епархии - судного приказа. Только одно сооружение центрального двора имело сугубо хозяйственное назначение - корпус сушил на ледниках и погребах. Причем оно примыкало к хозяйственным "водяным" воротам, тяготея к хозяйственному двору.
Все остальные хозяйственные службы, как менее значительные в сравнении с приказными учреждениями, получили периферийное местоположение по отношению к центральному двору, образуя свои функционально достаточно обособленные дворы. Так, большая часть домовых служб разместилась в зданиях, стоящих по периметру Г-образного в плане хозяйственного двора. Здесь имелись комплексы сушил на ледниках и кладовых палатах, пивоварни, "житий" на кладовых палатах, приспешни (пирожни), поварни и хлебни.
Этот двор через хозяйственные "дровяные" ворота сообщался с другим хозяйственным, так называемым "дровяным двором", занимавшим в XVII в. и на протяжении большей части XVIII в. всю восточную часть территории, называемой ныне митрополичьим садом (в западной его части находился в XVII в. домовый, то есть полностью зависимый от митрополита Григорьевский монастырь). На "дровяном дворе", видимо хранили дрова для многочисленных домовых печей, а также зерно.
Но большая часть зерна содержалась в житницах, составлявших, очевидно, житенный двор к югу от конюшенного двора. Последний, в свою очередь, представлял собой обширный своеобразный архитектурный комплекс к западу от центрального двора. Специфические функции некоторых домовых служб повлияли на конструктивное решение предназначавшихся для них зданий. Так, нижний этаж корпуса сушил на ледниках и погребах имеет полуподвальный характер, потому что для ледников и погребов необходимо было помещение, наполовину заглубленное в землю. Видимо, технология производства пива в XVII в. требовала более высокого помещения, чем у обычных складских и жилых помещений, поэтому высота одноэтажной пивоварни оказалась равной высоте двухэтажных корпусов, примыкающих к ней с двух сторон.
Конструктивные особенности конюшенного двора, включавшего в себя, кроме конюшей, жилые и складские помещения, продиктованы своеобразием функции данного учреждения.
Особенностью ансамбля митрополичьего двора XVII в. по сравнению, например, с монастырскими ансамблями той поры, является то, что в нем количественно несколько преобладали административные и складские здания, а не жилые, как в последних. Собственно жилыми в митрополичьем дворе были следующие помещения: часть митрополичьих хором, второй этаж судного приказа, надо полагать - "житья" над кладовыми палатами и, видимо, второй этаж над приспешней и поварней. Возможно, частично жилым был и небольшой, ныне почти полностью утраченный корпус при церкви Иоанна Богослова. В указанных помещениях постоянно проживала лишь очень небольшая часть домового штата - в основном, черное духовенство. Подавляющая же часть "митрополичьих домовых людей" жила в окружавших ансамбль городских слободах, принадлежавших митрополиту. Положение отдельных учреждений в иерархии митрополичьего двора до известной степени повлияло и на характер. художественного оформления специально для них построенных зданий.
Митрополичьи хоромы и корпус судного приказа обрели максимально индивидуализированный внешний облик со своеобразным и довольно богатым наружным декором (у митрополичьих хором ныне декор частично утрачен). Особое значение государских хором как путевого дворца русских царей подчеркивалось не менее выразительной внешней отделкой. И напротив - предельно скупое для того времени и унифицированное внешнее убранство, ограничивавшееся, в основном, скромными междуэтажными поясами, карнизами и простейшей формы наличниками с треугольным завершением получили здания, в которых располагались хозяйственные службы, обладавшие более низким рангом, чем жилье митрополита и приказные учреждения.
Из всего вышесказанного явствует, что организационно- управленческая структура ростовского митрополичьего двора существенно повлияла на формирование замысла ансамбля митрополичьей резиденции. До известной степени ансамбль являет собой зримое выражение иерархической структуры домового штата.
Источник: Мельник А.Г. Ростовский митрополичий двор в XVII в. http://www.rusarch.ru/melnik3.htm
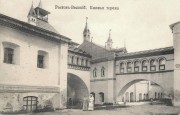






![Митрополичий двор, С. М. Прокудин-Горский. Каменное здание глубокой древности в саду Ростовского Кремля, которое по преданию служило баней Ростовского Архиерейского Дома. / [Княжеские бани в бывшем монастыре Григория Богослова.] 1911 год.
фото с http://prokudin-gorskiy.ru/image.php?ID=851, Ростов Великий, Ростовский район, Ярославская область](https://sobory.ru/pic/03250/03271_20150425_130611t.jpg)

![Митрополичий двор, С. М. Прокудин-Горский. Общий вид Княжьих теремов. [Ростовский Кремль.] 1911 год, Ростов Великий, Ростовский район, Ярославская область](https://sobory.ru/pic/03250/03271_20150425_161600t.jpg)
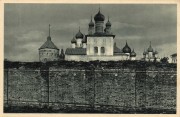


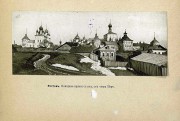
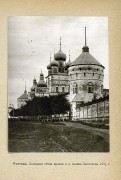
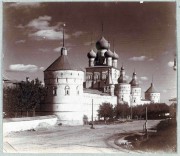
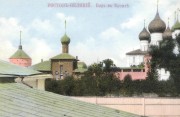
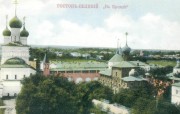
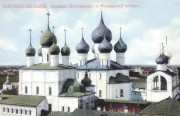
 14 февраля 2015
14 февраля 2015
 29 июля 2024
29 июля 2024
 30 июля 2024
30 июля 2024
 30 июля 2024
30 июля 2024
 25 августа 2024
25 августа 2024
 14 января 2025
14 января 2025
 8 января 2026
8 января 2026




























































































































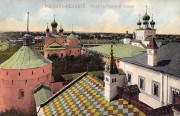

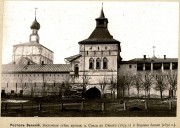



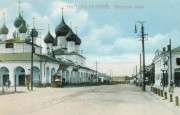






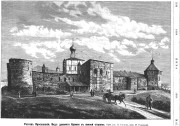



Комментарии и обсуждение
Цитата: "Ростовский кремль был построен во второй половине XVII в. по инициативе митрополита Ростовского и Ярославского Ионы III (Сысоевича). В те времена традиция строить кремли как оборонные укрепления уже прошла, и кремль выполнял функцию резиденции митрополита."
Успенский Собор - действующий. Идут службы, открыт для посещения.
Ростовский кремль (Митрополичий двор) на две недели в 1972 году становится декорацией к фильму Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Так, к северу от гостиницы музея-заповедника находятся въездные решётчатые ворота, ставшие знаменитым туристическим объектом Ростовского кремля благодаря этому фильму. Оглянувшись, можно узнать и другие места, ставшие знакомыми по этой комедии. Вот крыльцо Красной палаты и фасад церкви Воскресения Христова, штурмуемые стрельцами. Через эти ворота отправлялось войско "выбить крымского хана с Изюмского шляха" ну и заодно "на обратном пути Казань взять, чтоб два раза не бегать". Со двора ростовского кремля войско уходило на войну, запевая песню "Маруся". В сцене погони были задействованы переходы и башни кремля. По Соборной площади маршировала стрелецкая конница, проходя под святыми воротами. Колокола соборной звонницы вызванивали мелодию "Подмосковные вечера". Любопытно вспомнить полюбившиеся кадры и тут же обнаружить места, где они были сняты.
Из путеводителя: Рубцова Мария, Виденеева Алла "Ростов Великий. Святыни и достопримечательности", - издательство: Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря, 2019