Успенский монастырский собор в Старице представляет собой оригинальное явление для архитектуры своего времени. В архитектуре первой трети ХVІ в. заметно стремление к упорядоченности, регулярности всей композиции храма. В оформлении фасадов господствует определенная строгая ордерная сетка. Старицкий собор резко выделялся на этом фоне своей особенностью, редко встречающейся в древнерусской архитектуре, - пониженными угловыми помещениями, а также материалом - белым камнем (строительство в это время, в основном, велось из кирпича).
Мы не имеем точных свидетельств о времени постройки Успенского собора, однако в научной литературе была наиболее распространена точка зрения о возведении храма в 1530-х гг., а точнее в 1530 г. Первым эту дату предложил игумен Арсений еще в конце XIX в., называя при этом заказчиком храма старицкого князя Андрея Ивановича (имя князя как строителя собора упоминается уже в наиболее ранних источниках, а также в монастырских описях). С тех пор эта версия о времени строительства памятника прочно вошла во все издания, так или иначе затрагивающие Успенский собор. Лишь в последнее время были сделаны попытки оспорить утвердившуюся датировку.
А.Л. Баталов, анализируя декор интерьера памятника, находит много общего с системой декора церкви Вознесения в Коломенском. В частности, это сходство проявилось в профилировке ордерных членений. Так как храм в Коломенском был построен в 1532 г., то возвести Успенский собор, считает А.Л. Баталов, могли в промежуток между 1532 и 1537 гг. (гибель старицкого князя Андрея). В книге А.М. и М.А. Салимовых «Старицкий Успенский монастырь» авторы не исключают и возможности возведения храма ранее в конце 1510-1520-х гг., то есть с того времени, когда Андрей Старицкий был отпущен в удел Василием ІІІ. Однако исследователи не останавливаются на какой-либо конкретной дате, лишь расширяя хронологический диапазон строительства храма - с конца 1510-х гг. до 1537 г.
Чтобы приблизиться к решению данной проблемы, рассмотрим для начала историческую подоплеку время княжения Андрея Ивановича в своем уделе. Мы знаем, что полновластным хозяином своего удела князь Андрей стал в 1519 г., об этом говорит летопись: «Того же лета (7027) явил князь великы брату своему князю Ондрею Ивановичу удел Старицу, и Верею, и Вышгород, и Олексин со всеми волостьми». На протяжении 1520-х гг. летописи практически не упоминают имени князя, известно лишь, что в 1521 г. он участвовал в военных действиях против крымского хана Мухаммед-Гирея, а в 1522 г. вместе с Василием III ожидал нападения крымцев на Оке. Под 7041 (1533) годом мы встречаем в летописи упоминание о женитьбе князя, затем с 1534 г. он входит в «регентский совет» при малолетнем Иване IV, однако после конфликта с Еленой Глинской Андрей Иванович вынужден был вернуться в свой удел. Последние три года жизни старицкого князя, как мы уже говорили, прошли неспокойно, и в 1537 г., после неудачной попытки мятежа, он был уморен голодом в тюрьме.
Такова примерная последовательность фактов, известных о периоде княжения Андрея Ивановича в Старице. Нам также известно, что за этот период (с 1519 по 1537 г.) князь помимо Успенского собора, возвел каменную монастырскую ограду с церковью Василия Анкирского, а также каменные палаты на старицком городище. Таким образом, масштабы строительства были достаточно значительными и требовали немалого времени - никак не меньше пяти лет (например, строительство одного Успенского собора Московского кремля, выполненного в смешанной технике - белый камень и кирпич, заняло четыре сезона (1475-1479)), а если учесть финансовые возможности удельного княжества, то, возможно, и больше.
Если же мы взглянем на все время княжения Андрея Ивановича в своем уделе, то наиболее благоприятным временем для постройки собора и других зданий, на наш взгляд, можно считать 1520-е гг. Вполне логично и понятно желание князя, только вступившего во владение своими землями, благоустроить свой главный город: отстроить резиденцию на городище и обновить старинную Успенскую обитель. Мы не встречаем упоминания имени князя на страницах летописи около десяти лет (примерно с 1522 до начала 1530-х гг.). Возможно, что именно эти годы Андрей Иванович и посвятил возведению своей резиденции и монастырских построек. Вряд ли можно считать удачным для княжеского строительства период после 1532 г. (если придерживаться версии А.Л. Баталова о том, что Успенский собор Старицы перенял в декоре интерьера некоторые элементы убранства церкви Вознесения в Коломенском). Уже с конца 1533 года старицкий князь стал одним из опекунов при младенце Иване IV после смерти его отца Василия III а позже вступил в конфликт с Еленой Глинской, что и привело к его гибели (напомним, что за год до смерти Андрея Ивановича, в 1536 г., в тюрьме умер его старший брат Юрий). Итак, политическая обстановка не благоприятствовала начинаниям князя. Скорее всего, за этот достаточно недолгий отрезок времени им не было предпринято серьезных строительных инициатив.
В поисках доказательств выдвинутого нами варианта датировки Успенского собора попробуем обратиться к архитектуре, близкой по времени нашему памятнику. Единственным храмом с таким же объемно-пространственным решением, построенным в первой половине XVI в., является Рождественский собор Рождественского монастыря в Москве, традиционная датировка возведения которого 1501-1505 гг. в последнее время была справедливо оспорена. Вероятнее всего, этот памятник был возведен в 1520-1530-е гг., но уже после строительства храма в Старице. В этом случае уместно обратиться к декорации интерьера Успенского собора, который, как говорилось выше, несет на себе отпечаток итальянизирующих построек первых двух десятилетий ХVІ в.
Исследователями уже отмечалась некоторая близость ордерного убранства старицкого храма и соборов Ростова (Успенского), а также Хутынского монастыря, построенных в период с 1508 по 1515 г. и очень схожих между собой: оба храма ориентированы на архитектурный облик Успенского собора Московского кремля. Действительно, в декоре этих памятников и Успенского собора Старицы много общего. Хотя ростовский и хутынский соборы сложены из кирпича, их профилированные цоколи белокаменные и являются (как и в Старице) одновременно базами лопаток. Белокаменные порталы собора в Ростове, как и в Успенском соборе, завершаются полуциркульными архивольтами и имеют одинаковое количество полуколонок с «дыньками» и прямоугольных выступов, чередующихся друг с другом.
Внутреннее пространство этих больших шестистолпных храмов также четко структурировано, и здесь мы видим уже знакомые по старицкому собору элементы итальянизирующего декора: профилированные карнизы под конхой апсиды и в пятах сводов рукавов пространственного креста. Напомним, что в Успенском соборе Старицы стены, разделяющие алтарное пространство, сделаны в виде пилястр с базами и капителями и производят впечатление дополнительных столбов, то есть храм становится «как бы» шестистолпным, как и его более монументальные предшественники - ростовский и хутынский соборы. В последних существуют и повышенные подпружные арки, скрытые снаружи восьмигранным постаментом под барабаном. Указанные сходные черты, возможно, говорят о близком времени строительства Успенского собора и соборов Ростова и Хутынского монастыря.
К сожалению, круг построек 1520-х гг., периода, в который мы поместили Успенский собор, до конца не определен, многие из памятников не дошли до нашего времени. Точные даты имеют два больших комплекса - Борисоглебский монастырь под Ростовом (собор 1522-1524 гг. и трапезная 1524-1526 гг.) и Троице-Макарьев монастырь в Калязине (собор 1521-1523 гг. и трапезная 1525-1530 гг.). Собор Борисоглебского монастыря имеет достаточно традиционный облик для храмов перовой половины XVI в. — одноглавый, четырехстолпный с пониженными подпружными арками, он также обладает определенным набором итальянизирующих деталей на фасадах и в интерьере (профилированные цоколь и карниз, отсекающий закомары, импосты на столбах в интерьере). Аналогичен ему близкий по времени памятник - Троицкий собор Данилова монастыря в Переславле-Залесском (1530-1532 гг.). Прототипом для этих построек мог служить Спасский собор Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле 1506-1516 гг. — один из первых памятников, для которого образцом послужил Архангельский собор Московского кремля.
Архитектурный облик указанных памятников имеет мало общего с Успенским собором Старицы. Несколько ближе к памятнику, на наш взгляд, не дошедший до нас Троицкий собор Макарьева монастыря в Калязине. Можно судить о его внешнем виде по реконструкции, приведенной в третьем томе Истории русского искусства. Фасады собора делятся лопатками на прясла, горизонтальные членения отсутствуют. Пятиглавие, кокошники под барабанами (их декоративное оформление схоже с оформлением старицких барабанов), полуциркульные архивольты порталов все это сближает Троицкий собор Калязина монастыря и Успенский собор. Характерно, что заказчиком Троицкого собора был брат Андрея Ивановича Юрий. Необходимо здесь отметить, что Юрий Иванович также активно участвовал в строительстве в своем уделе (Дмитровское княжество). Помимо собора Троице-Макарьева монастыря князь (в роли заказчика или вкладчика) причастен, вероятно, к возведению Воскресенского собора в Кашине, комплекса Николо-Пешношского монастыря (Никольский собор и столпообразная Благовещенская церковь) и Сергиевской церкви Саввино-Сторожевского монастыря.
Главным же храмом, возведенным на средства Юрия Ивановича, безусловно, является Успенский собор в столице удела Дмитрове. Этот храм, подобно старицкому собору, не имеет точной датировки и традиционно относится к периоду между 1509 и 1533 гг. Однако в последнее время была выдвинута гипотеза, основанная на косвенных свидетельствах интенсивного строительства Юрия Ивановича в своем уделе и сужающая временной промежуток возведения дмитровского собора, с 1507 по 1511 г.. То есть Мы видим схожую ситуацию: недавно вступивший (с 1504 г.) в полноправное владение своими землями удельный князь желает обустроить столицу своих владений. Вполне возможно, что впоследствии Андрей Иванович, вступив во владения своим княжеством, мог по примеру своего старшего брата сразу же начать строительство Успенского собора в главном городе своего удела. И хотя архитектура дмитровского и старицкого соборов сильно различается (собор Юрия Ивановича четко ориентируется на Архангельский собор Кремля, на его фасадах воспроизведены ордерные элементы московского памятника, в дмитровском храме практически отсутствуют черты русской архитектуры XV в.), их сближает общая ориентация на Успенский собор Фиорованти как на «символический образ церкви». Итак, Успенский собор Старицкого Успенского монастыря мог быть возведен в 1520-е гг., на что нам указывают многие архитектурные особенности памятника, отразившиеся в декоративном убранстве. В пользу этой датировки говорят и исторические события, связанные с жизнью заказчика храма - князя Андрея Старицкого.
Вряд ли можно говорить о возможности возведения старицкого Успенского собора до 1519 г. Надо учитывать тот факт, что распространение итальянизирующей декорации в интерьере и на фасадах начинается после завершения строительства Архангельского собора в Москве, то есть после 1508 г. Первые же постройки вне Москвы, имеющие ордерные элементы, — это уже упоминавшиеся нами соборы Ростова и Хутынского монастыря, а также Успенский собор в Тихвине и Спасо-Преображенский собор в Ярославле. Все они были закончены в период с 1512 по 1516 г. Следовательно, старицкий собор, имеющий схожую с указанными памятниками систему ордерной декорации, скорее всего не мог быть построен до середины 1510-х гг.: перечисленные соборы были выстроены в основном по великокняжескому заказу, тогда как князь Андрей Иванович, видимо, в какой-то мере ориентировался на строительство старшего брата. Таким образом, попытка «удревнить» Успенский собор кажется нам лишенной каких-либо весомых оснований.
Мы предположили, что строительная активность старицкого князя падает на 1520- е гг. В этот период Андреем Ивановичем были возведены как здания на городище Старицы, так и постройки в монастыре, в том числе и Успенский собор. Желание заказчика князя Андрея Ивановича возвести эффектное здание, которое могло бы сравниться с храмами старицкого городища, расположенного на высоком берегу Волги, проявилось в создании постройки, сочетающей в себе две строительные традиции. Первая — это зодчество Москвы конца XIV первой трети XV в., вторая — архитектурные новации, привнесенные итальянскими архитекторами. При этом «итальянизмы», то есть элементы ордерной системы, как бы сосредотачивались в интерьере храма, фасады же трактовались в духе архитектуры доитальянского периода.
Источник: Ершов П.Г. К проблеме датировки Успенского собора Старицкого Успенского монастыря // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 4. СПб, 2014
http://www.rusarch.ru/ershov_p1.htm

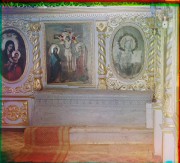
![Старицкий Успенский мужской монастырь. Собор Успения Пресвятой Богородицы, С. М. Прокудин-Горский. Надпись на стене о месте упокоения патриарха Иова. [Успенский Старицкий монастырь.], Старица, Старицкий район, Тверская область](https://sobory.ru/pic/05500/05517_20150426_235226t.jpg)


 7 ноября 2024
7 ноября 2024
 9 ноября 2025
9 ноября 2025































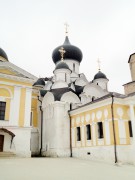
















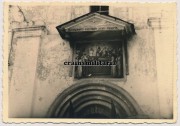

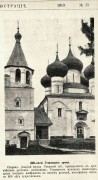



Комментарии и обсуждение
В храме находятся мощи схимонахини Пелагии — матери патриарха Иова.
Источник: сайт Старицкого Свято-Успенского монастыря