«…Одним из первых в Зауралье был основан в 1644 г. Далматовский Успенский монастырь, впоследствии ставший крупнейшим монастырем края. Так, уже к середине XVIII в. ему принадлежало село, 7 деревень, 2158 душ крестьян.
Далматовский монастырь явился одним из главных оплотов самодержавной власти в Сибири. Он сыграл значительную роль и в подавлении крестьянских выступлений (монастырские стены были свидетелями крестьянского восстания 1762-1764 гг., названного историками "Дубинщиной", и Крестьянской войны 1773-1775), и в обороне восточных рубежей России, и в выполнении ряда идейно-политических функций. Далматовскому монастырю, в частности, отводилось определенное место как в административно-управленческом аппарате церкви (он контролировал деятельность церквей и монастырей Далматовского заказа и управлял ими), так и в системе духовного просвещения края (в начале XVIII в. монастырем была открыта школа, которая готовила грамотных священников для всего Исетского края, при ней велось также обучение грамоте и нерусского населения).
Наряду с этим монастырская цитадель использовалась и в качестве тюремного застенка, стала карательным орудием в борьбе не только с противниками церкви, но также с политическими и уголовными преступниками. Немалая роль отводилась Далматовскому монастырю и в искоренении зауральского раскола.
К истории Далматовского Успенского монастыря исследователи обращались неоднократно. Среди дореволюционных работ, посвященных этой проблеме, особое место занимают труды Г.С. Плотникова, получившие достаточно высокую и положительную оценку у историков уже в XIX - начале ХХ в. Следует отметить, что эти труды не потеряли своего значения и для современного исследователя, так в распоряжении Г.С. Плотникова, с 1816 г. занимавшего должность учителя, а потом инспектора училища при Далматовском монастыре, находились материалы, не сохранившиеся до наших дней.
Еще до публикации своей основной книги "Описание Мужского Далматовского Успенского монастыря и бывшим приписным к нему женского Введенского монастыря" Г.С. Плотниковым была проведена большая работа по систематизации сведений, содержащихся в архивных документах, и предпринимались попытки изложить историю монастыря. Среди источников, использованных им, упоминается "копия с записи архимандрита Исаака об основании Далматовского монастыря". Судя по всему, она была единственным документом, содержавшим биографические сведения об основателе монастыря старце Далмате (в миру - Дмитрий Иванович Мокренский). Этими сведениями в пересказе Г.С. Плотникова пользовались и все последующие историки. Эта копия, хранящаяся в настоящее время в Синодальном собрании ГИМ под № 843, была сделана в последней четверти XVIII в. далматовским игуменом Адамом. Поскольку заглавие у рукописи отсутствует, предлагаем условно назвать ее "Известием об основании Далматовского монастыря".
Записи в конце синодального списка "Известия" дают основание предполагать, что копия Адама была в свою очередь переписана с копии, сделанной при архимандрите Иакинфе (в 1763-1777 гг. занимал эту должность в Далматовском монастыре). Автором подлинника Г.С. Плотников, также основываясь на записях в конце рукописи, называет архимандрита Исаака. Судя по тексту "Известия", архимандрит Исаак (в миру Иван Дмитриевич Мокренский), сын старца Далмата, живший в монастыре с 1650 г. и занимавший здесь с 1666 г. (с перерывами) должность игумена, действительно был автором этого сочинения. Исаак оставил заметный след в истории монастыря: при нем началось строительство каменных стен и построек, расширились земельные владения, увеличилась монастырская библиотека.
Архимандритом Исаак стал в 1702 г. и находился в этом сане до смерти в 1724 г. Таким образом, если принимать во внимание запись в конце копии, позволившую Г.С. Плотникову считать автором произведения Исаака, то "Известие" было написано им (а скорее всего продиктовано, о чем свидетельствует слово "читал", поставленное Исааком после его слов, заключавших текст "Известия": "Успенския обители Далматова монастыря архимандрит Исаак во уверение сего писания, дабы без сомнения было, пометил своею многогрешной рукою: "читал") между 1702 и 1724 гг. Ниже мы попытаемся еще более локализовать датировку памятника.
Условно "Известие" можно разделить на две части: в первой содержится подробный рассказ о Далмате и об основании им монастыря; во второй перечисляются по годам переписи монастырских земель. Казалось бы, такой переход от подробного повествования об основании монастыря к беглому перечислению переписей нелогичен. Но, с другой стороны, при рассмотрении данного сочинения в контексте конкретно-исторической обстановки видна взаимосвязь обеих частей произведения, цель которого обоснование и подтверждение прав монастыря на земельные владения.
Как известно, одним из основных средств приобретения земельных владений монастырями в Сибири был захват земель у нерусского населения. Позднее этот захват они пытались узаконить путем получения соответствующих документов на уже имевшиеся вотчины. Не был исключением в этом отношении и Далматовский монастырь. Земли, на которых поселился в 1644 г. Далмат, принадлежали татарскому мурзе Илигею и сдавались им в аренду для промыслов "ирбитцам и невьянцам Королевым и Шипицыным". Илигей трижды пытался вооруженным путем изгнать Далмата из своих владений, поэтому, на первый взгляд, не совсем ясно, каким образом основателю монастыря удалось одержать победу в борьбе с ним.
Не имея на эти земельные угодья юридических прав, далматовские старцы пытались представить дело как добровольное пожалование и найти соответствующие мотивы, побудившие к этому бывшего владельца земель. Поэтому в "Известии" и появляется версия о родстве Далмата с Илигеем, которая уже в литературе XIX в. подается как лишь неоспоримый факт, хотя из текста "Известия" видно, что это уловка Далмата. Одновременно рождается легенда о божественном прозрении татарского мурзы, также охотно используемая в дореволюционных исследованиях.
А.А. Дмитриев высказал предположение, что Далмат купил эти земли у Илигея. Однако вряд ли у Далмата были такие средства. Скорее всего он договорился с Илигеем об аренде угодий за более высокую плату, чем Королевы и Шипицыны. В "Известии" после сообщения о том, что весной 1645 г. Илигей отдал Далмату свою вотчину, идет фраза: "А от русских людей он же, Илигей татарин, приезжав, оборонял, и оброк с них брал". Ясно, что под "русскими людьми" здесь подразумеваются бывшие арендаторы Королевы и Шипицыны, которые, по версии "Известия", неоднократно натравливали Илигея на незваных переселенцев. А в последней части фразы речь идет о Далмате и его сподвижниках.
Как долго продолжалась выплата оброка и как старцам удалось. стать безраздельными хозяевами угодий на р. Исеть, источники не сообщают. Далматовские старцы поспешили предать забвению этот факт из первоначальной истории монастыря. Ни в одной челобитной на имя царя, ни в одном документе, касающемся монастырского землевладения, о нем не упоминается. Вероятно, это связано с царскими указами 1644, 1648 и 1662 гг., в которых "государь указал: в Софийской дом и во всех Сибирских городах в монастыри руским служилым и никаким людем, татаром и остяком, никаких угодий вкладу давати и продавать не велено, ни которыми делы, чтоб Сибирский архиепископ и в Сибирских городех в монастырех архимандриты и игумены и строители с братиею никакими землями без нашего Великого Государя указа не владели. В случае нарушения установленного порядка указ предписывал полученные монастырями земли "имать безповоротно безденежно", а отдавшим земли полагалось "чинить жестокое наказание". Иногда это указание действительно выполнялось.
Поэтому неудивительно, что далматовские старцы упорно, на протяжении многих лет добивались юридического подтверждения своих прав на эти земли. В 1651 г. они обратились с челобитной к царю Алексею Михайловичу и тобольскому воеводе боярину Василию Борисовичу Шереметеву "около своей пустыни о пустой земле и об рыбних ловлях и о всяких угодьях". B том же году на Белое Городище (так называлось место, где поселился Далмат) был послан сын боярский Павел Яковлевич Шульгин для "досмотру" указанных земель и описания границ владений монастыря , вслед за этой переписью в "Известии" перечислены переписи монастырских владений, произведенные в 1655(1656) г. сыном боярским Воином Дементьевым, в 1662 г. - письменным головой Кириллом Дохтуровым и в 1682-1683 гг. стольником Львом Поскочиным, причем в них неоднократно подчеркивалась неизменность размеров вотчины - "по тем же межам и урочищам".
Таким образом, вторая часть "Известия" уже была составлена в форме правового подтверждения монастырского землевладения. По какому же поводу могло быть написано "Известие"?
В 1708 г. в результате пожара сильно пострадали монастырские владения, в том числе частично сгорел архив: погибли выписки из переписных книг Л. Поскочина, И. Спешнева, переписанные книги В. Дементьева, данная Сибирским приказом закладная на р. Течу, список со сказок, "что поступились тюменские татары на Течу реку", и другие документы. Возможно, что из-за утраты этих документов и во избежание недоразумений при очередной переписи 1711 г. архимандритом Исааком и было составлено "Известие об основании Далматовского монастыря".
Анализ содержания памятника позволяет прийти к выводу, что "Известие" относится к жанру исторической повести. Вместе с тем оно испытало на себе и сильное влияние агиографического канона. С одной стороны, это было обусловлено как родом деятельности, так и кругом чтения автора произведения. Так, в распоряжении архимандрита Исаака находились монастырское книжное собрание и личная библиотека. В начале XVIII в. в книгохранительнице монастыря находилось несколько десятков книг и рукописей, подавляющее большинство которых составляла литература богослужебная и житийная. То же мы наблюдаем и в составе келейной библиотеки архимандрита Исаака, в которой следует особо выделить книгу "О чудесах пресвятыя богородицы"; оказавшую определенное влияние на текст "Известия".
С другой стороны, житийная окраска памятника объясняется также традиционной для того времени оценкой исторических явлений с точки зрения провиденциализма. Но если реализация общего замысла произведения, состоящего, как уже говорилось, в обосновании законности появления и существования Далматовского монастыря именно на этих землях, достигается в первой его части с помощью чисто средневековой апелляции к "промыслу Божьему", то использование "земных" доказательств владельческих прав монастыря-феодала на окрестные земли во второй части "Известия" показывает нам его автора как человека трезво и рационально мыслящего, который прекрасно понимал, что в новых исторических условиях одних чудес явно недостаточно.
Вместе с копией "Известия" в Синодальном собрании ГИМ хранится еще один документ, интересный тем, что также содержит свое образный очерк истории Далматовского монастыря. Это копия, сделанная игуменом Адамом с челобитной на имя царей Ивана и Петра, составленной игуменом Исааком и келарем Никоном, в которой содержалась просьба о денежном пожаловании на монастырские строения. Челобитная не датирована, поэтому время ее написания (1684-1696) можно определить следующим образом: нижняя грань - дата, упоминаемая в тексте челобитной последней (1664), верхняя - дата смерти царя Ивана (1696).
Впрочем, в документе есть место, косвенным образом позволяющее уточнить время написания челобитной. В ней говорится, что в 1684 г. цари Иван и Петр пожаловали далматовской братии "на строение церкви в девич монастырь и на книги, и на церковную утварь, и на колокола 100 рублей". Но этих денег для строительства церкви оказалось недостаточно: далматовские старцы смогли только заготовить лес, а на строительство средств уже не хватило. Поэтому они и обратились к царям с просьбой о денежном пожаловании. Вряд ли заготовка леса продолжалась длительное время. Следовательно, челобитная скорее всего была составлена в 1685-1686 гг. Подборка фактов в челобитной и их интерпретация также, как и в "Известии", определяются целью создания. Акцент в этом документе делается на бедствиях и трудностях, которые испытывал монастырь едва ли не с момента своего основания.
Следует отметить, что еще в 1886 r. Н.И. Тихомировым было опубликовано "Дело (1679 г.), производившееся в Сибирском приказе по челобитью игумена Далматовского Успенского монастыря в Пермской губернии Исаака с братиею о даче всепомоществования деньгами и церковными вещами на построение церкви", начинавшееся челобитной. Рассматриваемая нами челобитная в основном повторяет челобитную 1679 г. с той лишь разницей, что последняя составлена на имя царя Федора Алексеевича, не содержит сведений из жизни монастыря после 1679 г. и помимо просьбы о пожаловании денег включает просьбу о книгах, красках на "поновление" икон и другую утварь. Изложенные в 1679 г. факты почти дословно совпадают в обеих челобитных. Таким образом, можно сделать вывод, что историческая часть челобитных далматовских монахов была достаточно устойчивой и переписывалась из челобитной в челобитную с добавлением лишь фактов последнего времени.
Интересно отметить, что к челобитной 1679 г. прилагалась "роспись... что в монастыре том нужда церковных потреб и книг", в которой перечислялись необходимые книги и утварь. Эту роспись составил и собственноручно подписал бывший игумен, занимавший в 1679 г. должность келаря монастыря, Афанасий (в миру - Алексей Артемьевич Любимов-Творогов), известный впоследствии церковный деятель, писатель и книжник Афанасий Колмогорский. Как известно, Афанасий начал свою литературную деятельность еще в Далматовском монастыре. Следовательно, он мог быть автором или принимал участие в сочинении челобитной, послужившей образцом для всех последующих.
Естественно, что все исторические факты, изложенные в челобитных, не принимались в Москве на веру и перепроверялись через Тобольских воевод. Об этом свидетельствует документ в деле, опубликованном Н.И. Тихомировым, составленный по отпискам тобольских воевод И.А. Хилкова и А.А. Голицына. Так, в частности, в отписках подтверждались факты разорения монастыря башкирами в 1662, 1663 и 1664 гг. О помощи же со стороны монастыря отряду Д. Полуектова тобольские воеводы умалчивали…»
Источник: И.Л. Манькова Неопубликованные материалы по истории Далматовского успенского монастыря







 18 марта 2007
18 марта 2007
 16 февраля 2025
16 февраля 2025




































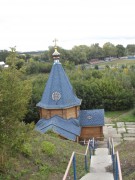


























Комментарии и обсуждение