Каменную Крестовоздвиженскую церковь в Иркутске начали строить в 1747 году. Храм получился великолепным, он считается главным шедевром всего сибирского зодчества, сочетающего русские, украинские и буддийские мотивы.
Строительство Крестовоздвиженской церкви в Иркутске началось в 1747 году и завершилось спустя тринадцать лет — срок немалый. Главная особенность архитектуры церкви, пышно декорированные стены - столь ярко восточные мотивы не выражены, пожалуй, ни в одном другом православном храме в России.
Храм первоначально планировали освятить во имя Святой Троицы, подобно его деревянному предшественнику. Но народное название «Крестовский» (по названию горы, на которой стоит церковь) настолько укоренилось, что главный престол освятили в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Троицким же стал первый из приделов храма, количество которых со временем увеличивалось — сейчас в церкви пять престолов.
Устроители явно не скупились на средства для украшения этого уникального православного храма Иркутска, и даже боковые приделы храма получили высокие и по-барочному украшенные иконостасы. Они сохранились до наших дней и представляют собой самое ценное в интерьере Крестовоздвиженской церкви.
Особенно велик иконостас главного престола. Он состоит из четырех чинов, но иконы каждого чина расположены в два ряда, поэтому выглядит он восьмиярусным. Верхние иконы практически не видны снизу, и хорошо рассмотреть их можно только с хоров, на которые ведет винтовая лестница. Иконостас увенчан резной Голгофой со скульптурными изображениями святых и ангелов.
Как бы ни были красивы иконостасы и высокие своды храма, они бессильны против сибирских морозов. Очень скоро стало ясно, что, помимо двух боковых, церкви необходим еще и зимний «приземистый» придел, чтобы его можно было протопить и совершать службы в холодное время города.
Новый обширный придел освятили в честь святителя Иннокентия Иркутского, на тот момент местночтимого святого, всероссийское прославление которого состоялось уже в начале XIX века. Владыка Иннокентий был первым правящим епископом Иркутским и Нерчинским.
Одновременно с зимним храмом была построена колокольня, которая изначально имела менее массивное завершение. Именно колокольня лучше всего видна с подножия Крестовой горы, она является визуальной доминантой храмового комплекса. Колокольный звон Крестовоздвиженского храма, благодаря высокому расположению колокольни, слышали далеко по берегам Ангары.
Во второй половине XIX столетия внешний облик храма претерпел последние изменения. В 1860 году к входу пристроили просторную паперть с крыльцом и двумя лестницами, ведущими в зимнюю и летнюю части церкви. А в конце XIX века было перестроено завершение колокольни, которая стала более массивной, что, впрочем, не нарушило общей гармонии.
Кресмовоздвиженской церкви выпала самая счастливая судьба из всех храмов Иркутска. В советское время она закрывалась совсем ненадолго, и все ее внутреннее убранство осталось нетронутым. А после возобновления в ней богослужений она стала главным храмом города. Однако колесо истории все же прокатилось и по этой церкви.
После революции Иркутск стал ареной ожесточенных боев Гражданской войны. Он несколько раз переходил из рук в руки и основательно пострадал. С городом тесно связана судьба одного из главных деятелей Белого движения, адмирала Колчака, принявшего титул Верховного правителя России. Еще до первой русской революции, в 1904 году, он, участник далеких северных экспедиций, обвенчался с Софьей Омировой в местной Харлампиевской церкви. А через много лет, в 1920 году, Колчака здесь же расстреляли по решению местного реввоенсовета. Уже в новейшее время в Иркутске открыли памятник адмиралу Колчаку на площади перед Знаменским монастырем.
Бурные события Гражданской войны отсрочили наступление богоборческих властей на Крестовоздвиженскую церковь, было не до этого, но через некоторое время большевики наверстали упущенное. Гонения на Крестовоздвиженский храм открылись в начале 1920-х годов. Однако, зная об особенной художественной значимости здания, власти не решились на его уничтожение и устроили в нем антирелигиозный музей. Такое использование послужило даже к некоторым ценным приобретениям. Сюда свезли иконы и утварь из взорванного Казанского собора и удалось спасти уникальные иконостасы и образа XVIII века, оставшиеся на своих изначальных местах.
Музей просуществовал всего десять лет. В 1943 году, после прекращения в стране оголтелой антирелигиозной кампании, Крестовоздвиженский храм решили вернуть Церкви. Как единственный действующий храм города он получил статус кафедрального. А в 1948 году его признали памятником архитектуры и взяли под государственную охрану.
Архитектура Крестовоздвиженской церкви Иркутска уникальна. Ее можно сопоставлять с другими иркутскими православными храмами, но примерно в той же мере, как церковь Вознесения в Коломенском — с другими шатровыми храмами XVI века. Тип — один и тот же, но исполнение - несравнимо.
Основной кубический объем продолжается в высоту высоким ярусным барабаном с постепенно убывающим размером ярусов. Форма кровли - типично украинская, однако колоколообразное завершение как бы разрезано дополнительным световым ярусом, что характерно уже для сибирского барокко. Из других иркутских храмов эта форма ближе всего верхней части собора Знаменского монастыря Москвы.
Широкая трапезная часть, которая в подавляющем большинстве церквей не имеет куполов, в данном случае увенчана сразу двумя колоколообразными завершениями в украинском стиле. По высоте они немного уступают центральному барабану, но образуют с ним необычную для русских храмов «треугольную» композицию. Еще один подобный купол — у Иннокентиевского придела, с северной стороны.
Дополняет композицию восьмериковая колокольня на отдельном выступающем выше уровня трапезной четверике. В конце XIX века ее завершение перестроили, придав ему конусообразную форму. Колокольня чем-то даже напоминает облик румынских православных церквей, хотя это сходство, конечно, случайно.
Вперед выдается мощная паперть с крыльцом, в центральном прясле которой заметно влияние неоготики. Все стены, включая придел и паперть, покрыты необыкновенно разнообразной и изобильной резьбой. Резные фасады типичны для иркутского барокко, но нигде больше резьба не представлена в таком исчерпывающем многообразии форм, как здесь. Многие орнаменты несут отчетливо буддийский отпечаток, копируя форму традиционных ступ (святилищ). В декоре храма очень много острых углов, не характерных для православного искусства.
О мастерах, строивших и украшавших храм, ничего не известно, но с большой вероятностью среди них были крещеные буряты, привнесшие в отделку храма свои национальные мотивы.
Долгое время Крестовоздвиженская церковь была целиком побелена, однако сейчас храму возвращена первоначальная расцветка. Все декоративные элементы выкрашены в красно-кирпичный цвет, что еще выгоднее выделяет их на фоне белых стен. В том же стиле оформлена и мощная ограда, окружающая храм.
Интерьер Крестовоздвиженской церкви Иркутска уникален. Посетитель храма прежде всего попадает на просторную и светлую паперть. Пройдя через помещение перед колокольней (куда выходит и лестница, ведущая на нее), он оказывается в трапезной части церкви. Своды трапезной опираются на два массивных столба, украшенных резьбой и скульптурами.
По обе стороны от столбов расположены боковые Успенский и Троицкий приделы. Они практически одинаковы, точнее — зеркальны. Разница только в освещенности — Троицкий светлее, так как примыкает к внешней стене с окнами, а со стороны Успенского пристроен еще один большой придел. Кроме того, иконостас Троицкого придела позлащен, в то время как в Успенском он выкрашен светло-зеленой краской. Размеры же иконостасов и количество икон в них одинаковы.
В отличие от многих городских церквей, где пол в новое время выложили современной плиткой, Крестовоздвиженский храм сохранил старые деревянные половицы. Такие чаще встречаются в сельских церквах и придают его интерьеру особый уют.
Арка между двумя приделами ведет в пространство храма перед центральным престолом. Эта часть заметно изолирована оттрапезной. Стены здесь выкрашены в ярко-синий цвет, по их периметру расположено несколько живописных медальонов с изображениями святых. Ввысь устремляется иконостас, над которым только необработанные стены центрального купола и пучки света, врывающиеся в солнечный день через окна.
В этой части храма есть хоры, расположенные, на манер древнерусских церквей, на большой высоте на западной стене, напротив алтаря. С них гораздо лучше видны иконы из ближних рядов иконостаса. На хоры ведет винтовая лестница.
В северной стене трапезной у Успенского придела пробита дверь в зимний храм. Он очень просторен, хотя потолок здесь гораздо ниже. Всю восточную стену занимает алтарь Иннокентиевского придела; ещё один придел устроен в отгороженном углу перед ним. Перед солеей обращают на себя внимание огромные подсвечники искуснейшей работы. Они были вывезены сюда из взорванного Казанского кафедрального собора.
http://posmotrim.by





 22 июля 2024
22 июля 2024


















































































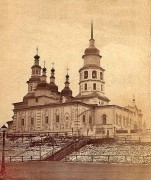




Комментарии и обсуждение
Эта церковь - архитектурная жемчужина южной части старого города. В ней видно смешение стилей: сибирское барокко, традиционное церковное зодчество, купола в украинском стиле, украшения в восточном.
Источник: книга "Храмы России"
Крестовоздвиженская церковь - единственный храм в Сибири, в котором полностью сохранились интерьеры XVIII века.