«…В апреле 1901 года несколько петербургских газет отметили кончину архитектора Михаила Арефьевича Шурупова. Кратко характеризуя в некрологах творчество зодчего, корреспонденты писали, что он «принадлежал к числу знатоков церковной архитектуры» и «построил немало прекрасных церквей». При этом отмечалось, что «большинство храмов выстроено им в изящном византийском стиле». Прошло свыше ста лет. Имя академика Императорской Академии художеств и её профессора не сможет назвать практически никто, кроме представителей узкого круга исследователей отечественной архитектуры. Чем же примечателен был творческий путь зодчего? Что он создал и почему его имя следует вспомнить и в Рыбинске?
<…> В 1870-1880-е годы имя «маститого архитектора» получило широкую известность. Оно было на слуху, в газетных заметках подавалось читателю без каких-либо разъяснений. Однако к концу XIX века М.А. Щурупова стали забывать. Для апологетов модерна и формирующихся ретростилей его архитектура казалась явным анахронизмом. Естественно, что после 1917 года имя Щурупова архитектора-храмостроителя - было предано забвению уже по причинам идеологическим, а почти всё созданное им взорвано или заброшено.
Злой рок преследовал его творения. Не сохранилось ни одной из трёх, возведённых Щуруповым в Петербурге, церквей, в том числе и самой известной - Борисоглебской. Разрушаются многочисленные строения Реконьской пустыни, затерянные в глухих лесах Новгородчины. О фундаменты соборного храма Леушинской обители плещутся волны Рыбинского водохранилища. Подобную судьбу разделила большая часть церквей и часовен, спроектированных зодчим в городах и сёлах по всей России. В этот скорбный список Можно внести и щуруповские доходные дома в Петербурге, которые либо не сохранились, либо перестроены порой до неузнаваемости. Бомбёжки и обстрелы в блокаду уничтожили часть из них. В послевоенные годы капитальные ремонты и другие напасти безжалостно срубили декор «сочинённых» архитектором фасадов почти со всех оставшихся домов. И лишь несколько построек, стоявших долгие годы в руинах, восстановлены в наши годы: церкви в Усть-Ижоре и Орске, собор Творожковского монастыря в Псковской губернии, построенная по инициативе Св. Иоанна Кронштадтского церковь в Суре, - они представляют на сегодняшний день в России архитектурное наследие Щурупова.
К этим счастливо избежавшим забвения храмам относится и Сретенская церковь в Рыбинске. Её проект был подготовлен зодчим в 1866-1867 годы. Здание было заложено в 1868 году рядом с холодным Крестовоздвиженским храмом, построенным в конце 1830-х крупным петербургским зодчим А.И. Мельниковым. 16 декабря 1873 года пятиглавая трёхпридельная зимняя церковь была освящена с наименованием престолов: главный Сретения и Павла Исповедника, боковые - Поклонения веригам апостола Петра и Авраамия Смоленского. Можно предположить, что престолы были освящены в честь святых, тезоименитых покровителей жертвователям на строительство храма - купцам А.А. Щербакову, П.А. Щербакову и П.А. Переславцеву.
По проектированию и строительству храма сохранилось ничтожное количество документов. Прежде всего, это академический отчёт Щурупова за 1866-1867 годы. В нём указан составленный им для Рыбинска «проект церкви на 1000 человек по завещанию почётного гражданина Щербакова». В журнале «Зодчий» в 1875 году была напечатана небольшая заметка В.А. Шрётера о строительной деятельности в Рыбинске, в которой автор упомянул в числе прочих и о церкви, «вчерне построенной архитектором Щуруповым», дав при этом ей довольно пренебрежительную оценку.
К сожалению, материалов по проектированию и строительству храма обнаружить не удалось, и другие сведения по его дореволюционному периоду истории крайне скудны. Исключение составляют страховые описи церковного имущества 1910 года. Почти нет и её хороших дореволюционных фотографий. Трудно что-либо сказать об интерьере храма. В упомянутой заметке в «Зодчем» Шрётер, указав автора интерьеров архитектора А.И. Кракау, высоко оценил его работу, назвав отделку храма «чрезвычайно гармоничною и истинно художественною <...> во вкусе североитальянских церквей». В личном деле Кракау, в собственноручно написанном им списке работ упомянут только иконостас церкви в Рыбинске. О причастности Кракау к созданию стенописи Сретенской церкви судить трудно, так как теперь уже окончательно утраченная живопись была переделана в начале ХХ века.
Первый, самый общий, анализ стилевых особенностей Сретенской церкви относит её к храмам, построенным в соответствии с принципами эклектики, которые позволяли зодчим не ориентироваться на конкретные исторические образцы, а сочетать в здании элементы самых разных стилей. Это направление получило особо широкое распро- странение с середины 1860-х годов, когда архитектура стала тяготеть к подчёркнутой репрезентативности форм, богатству и насыщенности декоративного оформления фасадов. В Сретенской церкви для православия традиционны только маленькие луковичные главки, завершающие купола. Стрельчатые завершения граней барабана и явно готическая дуг на фасадах реминисценция, которая дала основание Шрётеру в той заметке в «Зодчем» назвать церковь построенной в «псевдоготическом вкусе». Сама конструкция главного купола имеет византийское происхождение, а двойные полуциркульные окна ренессансное.
Щурупов ориентировался не только на точные исторические прообразы, но и использовал стилизованные формы. Так, декоративное завершение центральной части северного и южного фасадов можно трактовать и как ряд кокошников, и как закомары, и как мотив, навеянный нарышкинским барокко. Фасады храма при всём желании нельзя назвать ни русскими, ни русско-византийскими. Однако, несмотря на эклектизм храма, подход Щурупова к решению его фасадов близок к изданным в 1838 и 1844 годах известным проектам основателя русско-византийского стиля, автора храма Христа Спасителя К.А. Тона. Как и они, Сретенская церковь очень графична. Чёткое членение вертикалями делит её фасад на три части. Отсутствие пластических акцентов, классическая симметрия храма (его силуэт точно вписывается в равнобедренный треугольник. - Н.Я.), кратность основных размеров, плоскостность стен, чёткая прорисовка всех деталей декора - всё это характерно именно для церквей К.А. Тона. Несмотря на широкий выбор направлений русского стиля, существовавшего в 1860-х годах, несмотря на то, что академическое образование Щурупова позволило бы ему «скомпоновать» храм в любом виде, зодчий предпочёл формы, уже архаичные для столичного архитектора своего времени, в чём и не замедлил упрекнуть его Шрётер в своей заметке.
Почему же Щурупов не сделал проект во входящих в моду формах византийской архитектуры или не украсил стены храма каменным узорочьем Х?ІІ века, что было бы естественно и логично для приволжского купеческого города Ярославской губернии? Ответы на эти вопросы можно получить, если сделать ряд предположений о художественных взглядах Щурупова, не о непосредственном учителе его в Академии художеств, а о человеке, оказавшем влияние на его творчество.
В двух корреспонденциях столичных газет 1886 года о реставрации известной Никольской единоверческой церкви в Петербурге, построенной в 1818-1828 годы А.И. Мельниковым, Щурупов был назван его учеником. Найти в архивах подтверждения каких-либо контактов тогда ещё молодого академиста с Мельниковым, исполнявшим обязанности ректора, не удалось. Но сам факт «оглядки» Щурупова при проектировании Сретенской церкви на стоящий рядом Крестовоздвиженский храм, построенный, как отмечалось ранее, по проекту Мельникова, говорит о многом. Щурупов не рискнул возводить Сретенскую церковь в классицистических формах (хотя кто знает, может быть, это и не удалось бы ему из-за желания заказчиков). Но строить рядом с величественным ампирным Храмом Мельникова и подобной же колокольней (архитектор П.А. Уткин. - Н.Я.) что-либо в «модных» византийских или московско-ярославских формах значило внести в архитектурный ансамбль резкий диссонанс. Щурупов не мог себе этого позволить. Тоновский стиль, хронологически следовавший за ампиром, несмотря на все свои отличия, не противоречил облику Крестовоздвиженского храма. Можно заметить, что и сам Тон, не преодолевший в своих «русских» храмах академической школы, был из всех эклектиков наиболее близок убеждённому «классику» Мельникову. Поэтому выбор Щуруповым если не точного следования тоновскому стилю, то его характерным особенностям, был неслучаен.
Также очевидно ориентирование Щурупова в конструкции Сретенской церкви на творческие приёмы самого Мельникова. Как известно, излюбленной формой, эталоном в его постройках был крестообразный «абсолютно чистый тип» строго симметричного четырёхстолпного одноглавого здания со сферическим куполом. В случаях многоглавия (такие проекты также были у Мельникова) центральная глава всегда доминировала над боковыми, чисто Декоративными. Интересно, что в Сретенской церкви Щурупов применил такую же, как Мельников в Никольской церкви в Петербурге, редкую для православных храмов Оригинальную конструкцию хоров. Они сделаны в нижней части центральной главы в виде кругового балкона, поддерживаемого чугунными кронштейнами. Чтобы ещё сильнее подчеркнуть связь с постройкой Мельникова, Щурупов украсил Сретенскую церковь такими же декоративными луковичными главками, какие завершали купола Крестовоздвиженского собора. Деликатный подход архитектора в проектировании храма для Рыбинска Шрётер, пренебрежительно ото- звавшийся о его постройке, просто не понял.
И если вспомнить слова исследователя творчества Мельникова М.П. Тубли, который писал, что в 1830-х годах Мельников не оказывал «активного творческого влияния на направленность учебного процесса в [Академии художеств, почему и] не приходится серьёзно ставить вопрос о [его] «учениках» или «школе», то можно высказать предположение, что всё-таки один «ученик» (или последователь) у Мельникова был. И в своём дальнейшем творчестве Щурупов не раз обращался к композиционной схеме рыбинской церкви (собор Реконьской пустыни, собор в Токио, церковь Смоленской Божией Матери в Петербурге, в которых при формальном сохранении традиционного пятиглавия главный купол доминирует над декоративными малыми боковыми главками). Заканчивая анализ стилистических особенностей Сретенской церкви, хочется ещё раз отметить, что её формы, выглядевшие анахронизмом в глазах Шретера, были неслучайны и продуманы Шуруповым, будучи обусловленными и соседством ампирного храма, и желанием подчеркнуть память о его создателе.
Дальнейшая судьба Сретенской церкви в продолжении ХХ века была достаточно «традиционна» для тысяч других храмов России. В 1929 году Крестовоздвиженский приход был ликвидирован, а его постройки переданы в пользование войсковой части. В отличие от полностью уничтоженных Крестовоздвиженской церкви и колокольни, здание Сретенского храма, в котором размещался спортзал, в основном уцелело. В конце 1980-х предполагалось разместить там сперва базу Рыбинского реставрационного участка, затем концертный зал. Однако в начале 1990-х годов было принято единственно правильное в данной ситуации решение - церковь была возвращена Ярославской епархии. Реставрация по проекту архитектора Н.Н. Гончаровой вернула фасадам здания прежний облик. К сожалению, угадывавшиеся остатки прежних росписей сохранить было, по-видимому, невозможно. Уцелели лишь упоминавшиеся выше хоры в главном куполе храма и ведущая к ним чугунная лестница. Постепенно были выполнены новые иконостасы как и первоначально, невысокие, двухъярусные. 17 ноября 2013 года произошло полное освящение храма епископом Рыбинским и Угличским Вениамином.
Печален и трагичен парадокс: наследие русского зодчего, а это ведь его труды - лучше всего сохранилось в далёких Японии и на Афоне. К числу же немногих, восстановленных из руин и забвения сооружений здесь, в России, принадлежит и Сретенская церковь Рыбинска…»
По материалам статьи Николая Яковлева «От Токио до Рыбинска» в журнале «Углече Поле», № 1 (24), 2015 г., стр. 118-126.














































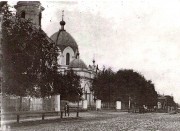



Комментарии и обсуждение
Сретенская церковь строилась как часть ансамбля Крестовоздвиженского комплекса. Архитектор - М.А. Щурупов. Автор внутреннего убранства - А.И. Кракау. Возведён в 1866-1873гг. в неовизантийском стиле. Наибольший вклад в организацию и финансирование строительства внёс купец П.А. Переяславцев. Храм освятили 16.12.1873 г. Первым священником в церкви служил о. Константин Попов. Сретенский храм долгое время использовался как спортзал. В мае 1995 г. передан Русской Православной церкви. При церкви действуют воскресная школа и библиотека.