Палей, остров. Палеостровский Рождественский монастырь.
Престолы: Рождества Пресвятой Богородицы
Год основания: не ранее 1410.
Епархия: Карельская митрополия. Петрозаводская епархия
Адрес: Республика Карелия, Медвежьегорский район, о. Палей
Координаты: 62.572467, 35.240316
Проезд: Поезд Москва – Мурманск (Санкт Петербург - Мурманск) до станции Медвежьегорск (158 км к северу от Петрозаводска). Далее автобусом до с.Толвуи. Либо на автобусе Петрозаводск - Великая Губа через с.Толвуя. Автомобилем: по трассе М-18 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск до г. Медвежьегорск ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Поезд Москва – Мурманск (Санкт Петербург - Мурманск) до станции Медвежьегорск (158 км к северу от Петрозаводска). Далее автобусом до с.Толвуи. Либо на автобусе Петрозаводск - Великая Губа через с.Толвуя. Автомобилем: по трассе М-18 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск до г. Медвежьегорск (158 км к северу от Петрозаводска), далее до с.Толвуи или Лебещина. Предварительно необходимо позвонить в монастырь (тел. 8-921-223-10-07), сообщить о своем приезде и попросить иеромонаха Михея встретить вас на моторной лодке или снегоходе у причала в Толвуе.
Ссылки:
Церковь Ефрема Сирина

В настоящее время сохранились главный корпус с домовой церковью, некоторые здания и часть ограды
Елена Воробьева и Лариса Кригер
5 августа 2007
Карта и ближайшие объекты
Статьи
Палеостровский Рождественский Богородицкий монастырь, заштатный, в 140 верстах от города Петрозаводска, в 40 верстах от города Повенца, на острове Палье Онежского озера. Основан в XV веке пр. Корнилием (см. 19 мая) и учеником его Авраамием. Главная святыня монастыря — мощи пр. Корнилия, покоящиеся под спудом в соборном храме Рождества Богоматери. Ежегодно 19 мая и 8 сентября совершаются крестные ходы к месту подвигов пр. Корнилия — в скалистую пещеру, которая находится в 300 саженях от монастыря на берегу озера.
Из книги С.В. Булгакова «Русские монастыри в 1913 году»
Этого края близко коснулись события церковного раскола XVII века - одной из самых трагических страниц русской истории. Напомним, что реформа патриарха Никона затрагивала на первый взгляд лишь внешние, обрядовые стороны культа. Однако никоновские преобразования всколыхнули Русь, раскололи ее на сторонников и противников новшества. Среди северных крестьян протест против реформы нашел особенно сильный отклик. Привычные к устойчивым, патриархальным, внешне неизменным, вековым жизненным и религиозным нормам, они видели в разрушении "древлего благочестия", в изменении церковных обрядов причины своих несчастий, обострявшейся нищеты, и тысячами примыкали к расколу. Случилось так, что огромный Соловецкий монастырь в 1666 году полностью перешел на сторону раскола. Туда, к Белому морю, потянулись сторонники старых обрядов со всей Руси. То в одиночку, то группами шли они через Заонежские погосты. Когда же в 1676 году монастырь был разгромлен, то успевшие спастись от казни искали приюта в дремучих северных лесах. Особенно много крестьян перешло на сторону раскола в Шунгском, Толвуйском и Чёлмужском погостах. Оплотом же старообрядцев стал в 80-х годах XVII века Палеостровский монастырь. Он расположен на острове Палье, в Повенецкой губе Онежского озера, около Толвуя и Шуньги.
Предание рассказывает, будто он основан еще в XII веке иноком Корнилием, уроженцем Пскова. Эту легенду не подтверждают сохранившиеся документы, но монастырь действительно был одним из древнейших в крае. Он безусловно существовал уже в начале XV века. Одно время там жил инок Зосима, происходивший из местных толвуйских крестьян и ставший потом одним из основателей Соловецкого монастыря. К XVII веку монастырь разросся, приобрел немалые земельные владения. Облик его, судя по тогдашним описаниям, был для тех мест весьма внушительным. Три церкви и множество других построек, жилых и хозяйственных, были обнесены прочной оградой. Именно здесь, в старинном деревянном монастырьке и суждено было произойти событиям, ставшим по драматичности своей как бы кульминацией, высшим выражением движения раскола. Речь идет о знаменитых палеостровских самосожжениях.
Зимой 1687 года, преследуемые отрядами хорошо вооруженных царских солдат, сюда, в Палеостровский монастырь, стекались сотни старообрядцев. Они шли из окрестных береговых погостов, по озерному льду, на лыжах. Монастырь был окружен стрельцами. Началась осада. Опасаясь вооруженного отпора, солдаты выставили вперед для защиты от пуль возы с сеном. Раскольники неделю сидели в монастыре без воды и пищи. Наконец, войска приступили к штурму. Им быстро удалось ворваться в монастырь, перекинув лестницы через сравнительно невысокую ограду. Осажденные засели в своем последнем оплоте - в церкви. Чтобы никто не мог попасть туда, они сломали ступени высокого церковного крыльца, а переносные лестницы, по которым сами вошли, подняли с собой. Солдаты, расставив пушки на монастырской стене, начали почти в упор стрелять по бревенчатому срубу церкви. Потом бросились на штурм, секли деревянные стены топорами. Поражение раскольников стало неминуемым. Именно в этот момент церковь загорелась: по старообрядческим легендам, якобы от сотрясения упали свечи, возжженные перед иконами. Но, скорее всего, здание сознательно подожгли учителя и наставники раскольников. Огонь почти мгновенно охватил церковь, пылающие бревна рухнули и погребли под собою всех осажденных.
Еще одна "гарь", при очень похожих обстоятельствах, произошла в том же монастыре через полтора года, 23 ноября 1688 года. По всему Северу пылали в ту пору страшные костры, но ни один из них не может сравниться с самосожжениями в Палеостровском монастыре.
В пожарах погибли все древние монастырские здания. В конце XVIII - начале XIX века обитель была отстроена заново. В 1795 году возвели маленькую деревянную церковь Ефрема Сирина, а в 20-х годах XIX века - каменный собор Рождества Богородицы. Возникли деревянные и каменные кельи. Однако попытка возрождения не удалась. Монастырь захирел и никогда уже не обрел былого значения. Сейчас его здания полуразрушены. На острове тихо, пустынно. Но когда вспомнишь о минувшем, жутко становится ступать по этой земле.
Источник: http://refdb.ru/look/1863011-p5.html
«…Письменные памятники Палеостровского монастыря (подлинники и списки), имевшиеся в обители в XIX в., были описаны и опубликованы Е. В. Барсовым в 1860-е гг.: царские жалованные, иераршие и прочие грамоты, памяти и наказы воевод и других начальных лиц, закладные крепости и кабалы, различные записи и т. д. (XVI-XIX вв.). Палеостровские грамоты XV в. из фондов РГАДА были изданы С. Н. Валком и В. И. Корецким. Наиболее ранней из них является данная Толвуйской земли Палеостровскому монастырю на Палий остров с малыми островами (1415-1421 гг.).
Согласно описи монастырского имущества за 1803 г. (более ранние нам пока были недоступны), монастырская библиотека на рубеже XVIII-XIX вв. состояла из 83 томов – преимущественно печатных книг XVII-XVIII вв. общественного и частного богослужения. Запись приведена при описании только одной книги – «Триодиона в лист, 1688 года, октября»: «По сему 197-го (1689) февраля в 18 по указу великих государей царей и великих князей Иоанна Алексиевича, Петра Алексиевича и великия государыни благоверныя царевны княжны Софии Алексиевны всея великия и малыя и белыя России самодержцов» (запись разнесена по листам).
В библиотеке имелись в это время только две рукописные книги: лицевой помянник и служба Корнилию Палеостровскому («Служба преподобнаго отца Корьнилия чудотворца во осмуху листа, писменная, полууставом, с красной прописью»). В дополнениях к описи за 1806 г. и последующие годы отмечены переданные в монастырь книги из личной библиотеки палеостровского настоятеля Пахомия (1805–1809 гг.), среди них две рукописи: «О толковании иностранных речей» Т. В. Баландина (послушника Палеостровского монастыря, первого петрозаводского писателя-краеведа) и Старчество («Предание старческое новоначальным иноком»). Книги поступали в монастырь и от других лиц. Так, новгородский митрополит Амвросий (Подобедов) прислал в обитель издание своих проповедей на воскресные и праздничные дни в трех частях.
Поступление новых книг в библиотеку продолжалось и позднее. В описи 1867 г. перечислены 366 книг, в том числе труды естественно-научного характера. Список «описи книгохранилища и письменности» за 1904 г., хранящийся в НАРК, остался, вероятно, недописан, поскольку здесь отсутствует перечень книг по разделам «Писания святых отец», «Книги исторические», «Прочие книги духовного содержания». Зато в этой описи кратко перечислены 11 рукописей на бумаге: «Служба Одигитрии; Служба преподобному Корнилию (2 списка); Служба митрополиту московскому Филиппу; Соловецкий летописец; Житие Николая Чудотворца; Повесть о чудесе бывшей от иконы Богородицы; Книга душевнаго врачевства; Жизнь и подвиги преподобнаго Димитрия чудотворца; Служба на Рождество Богородицы; Синодик».
К собственно литературным памятникам Палеостровского монастыря принадлежат, в первую очередь, сочинения, посвященные его основателю св. Корнилию Палеостровскому: краткое «Сказание о жизни преподобнаго отца Корнилия» и молитва (иногда она разделена на две отдельные молитвы); к ним в рукописях добавляются служба или тропарь с кондаком. Согласно этим текстам, Корнилий был родом из Пскова, после долгих странствий он поселился в пещере на каменистом берегу острова Палей в Онежском озере. Через некоторое время к нему стали приходить «любители уединения, изволяющии монашествовати».
Корнилий построил для иноков кельи, возвел храм Рождества Богородицы. После устроения монастыря он «обложил свое тело железными веригами и поясом» и вернулся в свою пещеру, где и умер. Ученик Корнилия Авраамий Палеостровский перенес его тело в храм Рождества Богородицы и предал земле. В молитве отмечены два посмертных чуда Корнилия: исцеление девицы Агафии от слепоты и некоего Бориса, ставшего потом монахом, от «расслабленныя болезни». «Сказание…» и молитва были созданы, по-видимому, вряд ли ранее середины XVIII в. на Палеострове. Служба, возможно, имеет дониконовское происхождение, поскольку использовалась выговскими старообрядцами.
Данные сочинения переписывались иногда вместе и известны по единичным спискам XVIII – первой половины XIX в.: ГИМ, собр. Барсова, № 862, 863 (вместо службы тропарь и кондак); ИРЛИ, Северодвинское собр., № 809; БАН, собр. текущих поступлений, № 466 (вместо службы тропарь и кондак); Саратовский государственный университет, коллекция И. А. Шляпкина (вместо службы тропарь и кондак). Еще один список конца XVIII в. был частично опубликован в 1906 г. М. Преображенским. Два списка «службы и жития Корнилия Палеостровского» XIX в., согласно описи В. И. Малышева 1940 г., хранились в Петрозаводске в республиканском архиве (современное местонахождение этих списков неизвестно). В рукописях встречаются также отдельно служба (ГИМ, собр. Уварова, № 253; РНБ, Q.I.1106), тропари и кондаки святому (РНБ, собр. Титова, № 143/1906; БАН, 33.15.179). В последней из указанных рукописей (БАН, 33.15.179) на первом листе содержится кроме того начало молитвы, переписанной с большим числом ошибок, в которой св. Корнилий упоминается в числе других святых: «Преподобных и богоносных отецъ наших Антония и Федосия, Ефрема Силена (т. е. Сирина. – А.П.), Корнилья Палестроскаго, преподобныя угодники отцы Серъгее и Реманей (вероятно, Сергий и Герман Валаамские. – А. П.), молите Бога о насъ! Преподобныя угодники отцы Зазима и Саватия Солавецъкия чудотворцы, молите Бога о насъ! Николая чудотворцы, Беседнецкой (т. е. Беседный. – А. П.) угодник, Тифенъская Божия…» (на этом текст обрывается).
Служба и молитвы Корнилию вошли и в старообрядческую выговскую книжную традицию (РГБ, собр. Егорова, № 2044, 1750-е гг., почерк выговского книжника Василия Данилова Шапошникова). Причем часть песнопений (стихиры) в указанной выговской рукописи распета на крюках: следовательно, служба Корнилию Палеостровскому использовалась на Выгу в XVIII в. в богослужебной практике. Песнопения св. Корнилию со знаменной нотацией включались и в более поздние поморские стихирари. Примечательно, что после утраты списка службы во время пожара в монастыре в начале 1790-х гг. палеостровские монахи получили новый список именно от выговских старообрядцев.
Раннее Житие Корнилия Палеостровского, если и было написано, до наших дней не сохранилось или пока не обнаружено. В конце XVIII-начале XIX в. Т. В. Баландин составил «Повесть о Палеостровском монастыре». В цикл сочинений о св. Корнилии входит и позднее стихотворное сочинение «Стих Корнилия Палеостровского чудотворца». «Стих…» известен сегодня в двух вариантах в составе рукописного стиховника 1920-1930-х гг. (ИРЛИ, Новгородско-Псковское собрание, № 49). Он составлен на основе популярных кантов «Время радости настало…» и «Там уныло занывает / тонный звон колоколов…» и представляет собой своеобразное поэтическое Житие Корнилия Палеостровского.
Ценным источником по истории Палеостровского монастыря является синодик этой обители (ИРЛИ, собр. отдельных поступлений, оп. 23, № 53). Рукопись форматом в 4-ку, на 62 листах, принадлежит к типу синодиков-помянников; ранняя ее часть датируется 1640-ми гг., а поздние записи относятся к началу XIX в. Обстоятельное источниковедческое исследование этого памятника принадлежит петрозаводскому историку Е. Д. Сусловой. Согласно наблюдениям исследовательницы, в синодик занесены имена 66 вкладчиков (с перечнем имен их родственников), среди них 32 человека – крестьяне, 12 человек – представители духовенства, 10 человек – жители посада; 9 человек состояли на государевой службе в приказах и полках. Вкладчиками Палеостровского монастыря являлись Григорий Дмитриевич Строганов (1656–1715) - крупный землевладелец и промышленник, Алексей Семенович Чоглоков - олонецкий комендант (до 1707 г. – вице-комендант) и начальник Олонецких Петровских заводов (1705–1711 гг.), а также упомянутый уже Т. В. Баландин – чиновник канцелярии начальника Олонецких заводов, петрозаводский краевед. Не исключено, что синодик находился какое-то время в личном распоряжении Баландина, поскольку два последних листа (л. 61 и 62) исписаны его рукой.
Еще один памятник письменности, связанный своим происхождением с Палеостровским монастырем – скорописная толковая азбука, составленная в 1717 г. монахом Иоасафом (НА КарНЦ РАН, разряд I, оп. 2, д. 92). Толковые азбуки (или азбуки-акростихи, азбуки-границы) известны в русских рукописях начиная с XIV-XV веков. Их содержание составляют «душеполезные» тексты (молитвы, изложение библейских сюжетов, поучения и т. д.), в которых каждое новое предложение начинается с очередной буквы алфавита.
Созданные первоначально как памятники вероучительного характера для христиан всех возрастов, толковые азбуки постепенно вошли в учебную практику, стали применяться для обучения детей грамоте. Так, уже в первом русском печатном учебнике Букваре Ивана Федорова (Львов, 1574) была помещена азбука «Аз есмь всему миру свет». Толковые азбуки заучивались наизусть и служили одним из способов для запоминания алфавита или же для закрепления этих знаний. Нередко азбуки записывались на свитках, склеенных из нескольких листов бумаги и достигающих в длину 9?10 метров. Как отмечает исследователь этих памятников Е. А. Мишина, самые ранние списки азбук-свитков датируются 20-ми гг. XVII в., а в употреблении они сохранялись на протяжении всего XVIII в.
«Палеостровская азбука» (такое название за ней закрепилось в науке) представляет собой свиток, разворачивающийся почти на 6 метров. Азбука составлена в форме поучения опытного мудрого человека к «юноше», еще только вступающему в жизнь. Главная ее тема – необходимость учиться: «ученых людей слушай наказания», «доброму всякому учению внимай», «емлися учению, чтению, пению» и т. д. Одновременно автор заповедует «юноше» избегать тех соблазнов, пороков (особенно пьянства) и «злых людей», которые отвращают от учения и ведут к погибели души: «злаго обычая не держися, со юношами, и с блудники, и с корчемники, и со младыми женами не водися», «не спи долго, не гуляй безгодно» и др. Важная мысль азбуки-поучения заключается также в том, что доброе учение возможно только при полном послушании родителям. К сожалению, без тщательного источниковедческого и текстологического анализа русских толковых азбук невозможно судить о степени самостоятельности составителя азбуки: был ли Иоасаф автором азбуки или только переписал ее.
Очевидно вместе с тем, что своим настойчивым призывом к учению азбука вполне соответствует духу Петровской эпохи – начала Русского Просвещения. В том же 1717 г. в С.-Петербурге была издана и знаменитая книга для дворянских детей «Юности честное зерцало», с которым «палеостровская азбука» перекликается некоторыми своими идеями. По всей видимости, Иоасаф составил эту азбуку для кого-то из мирян, проживавших в расположенном неподалеку старинном селе Толвуя. Во всяком случае, в 1724 г. она принадлежала, согласно владельческим записям, жителю Толвуйского погоста Семену Семенову Колмакову. «Палеостровская азбука» интересна, таким образом, как ценное свидетельство культурного влияния севернорусских монастырей на местное крестьянство.
Некоторые сведения можно сообщить и о создателе этой рукописи монахе Иоасафе. Свое имя он указал в конце свитка: «Лета от Рожества Христова 1717. Написана бысть в Палеостровском монастыре рукою инока Иоасафа». Как удалось установить недавно, перу этого книжника принадлежат еще три рукописи, в каждой из которых он оставил свои писцовые записи: 1) Страсти Христовы (БАН, собр. Александро-Свирского монастыря, № 14, 1713 г.); 2) Житие Александра Свирского (ГРМ, др. гр. 26, 1715 г.); 3) Страсти Христовы (БАН, собр. Археологического института, № 24, 1717 г.). Из записей Иоасафа выясняется, что он уроженец Москвы, принял постриг в Александро-Свирском монастыре, исполнял в этой обители должность канонарха, между 1715 и 1717 г. был переведен в Палеостровский монастырь или был отправлен сюда временно с каким-то поручением. Приведем текст этих записей:
«Лета 7221, а от Рожества Христова 1713 году месяца ианнуария в день совершися сия богодухновенная книга, рекомая Страсти Господа нашего Иисуса Христа. А писал сию книгу Александрова монастыря крылошанин монах Иоасаф, постриженик того ж монастыря, родом московский, по верному своему обещанию в дом Пресвятые Троицы и преподобнаго отца Александра в прочитание всем православным христианом» (БАН, собр. Александро-Свирского монастыря, № 14, л. 178 об.).
«А писавы сие Житие Александрова монастыря по обещанию своему в дом Пречистые Троицы и чюдотворца Александра некто от убогих крылошанин канонарх монах Иоасаф, постриженник тоя пречистыя обители, родом московский, своею рукою недостойною, лета 1715, сентября дня 20-го» (ГРМ, др. гр. 26, л. 314 об.). «Писал сию книгу рекомую Страсти Христовы крылошанин монах Иоасаф Александровец по обещанию в дом Рожества Пресвятыя Богородицы Палеостровского монастыря своей рукою» (БАН, собр. Археологического института, № 24, л. 101 об.); «Л[ета] 1717-го февраля дня 18 совершися. Писах Александрова монастыря Свирского крылошанин монах Иоасаф в бытии Палеостровскаго манастыря по своему обещанию» (Там же, л. 123).
Почерк этих записей не оставляет сомнений в том, что все они сделаны одной рукой. Таким образом, Иоасаф был опытным писцом, владевшим каллиграфическими почерками и техникой книжного декора (в рукописях имеются изящные по исполнению заставки и пышные инициалы поморского стиля). Все четыре известные сегодня рукописи Иоасафа по праву могут быть названы памятниками книжного искусства.
Записи с упоминанием Палеостровского монастыря содержатся в некоторых старопечатных изданиях и рукописях, включающих различные памятники древнерусской письменности. Так, в 1690 г. в Палеостровский монастырь был отправлен печатный Пролог на март-август (М., 1677) «по указу великого господина святейшаго кир Иоакима Московского […] патриарха». Рукопись конца XVII в. с Соловецким патериком (РНБ, Софийское собр., № 452) в 1725 г. была продана соловецким монахом Евфимием «иеродиакону Авраамию в Палеостровский монастырь в казну…» (л. 1). В 1701 г. монах Палеостровского монастыря Макарий продал рукопись Ирмология на линейных нотах конца XVII в. некоему Ивану Попову и «цену взял всю сполна по зговору своему» (РГБ, Музейное собр., № 4194, л. 1-15).
Две однотипные вкладные записи игумена Палеостровского монастыря Антония (являлся настоятелем в 1668-1674 гг.) читаются в печатном издании Служебника (М., 31.08.1655) (БАН, 1251. СП.). Согласно одной из них, эта книга была дана в декабре 1670 г. в Спасский Вашеостровский монастырь «за собя вкладом и по своих родителех...». Во второй – недатированной - записи, выполненной другим почерком, местом вклада указан уже Шунгский Никольский-Ильинский женский монастырь: «…в Никольской Шунской Ильинской девичь монастырь при игумени Неониле поминати родителей своих еже о Христе сестрами…» Оба монастыря, Вашеостровский и Шунгский, находились недалеко от Палеострова, в Заонежье. Трудно сказать, что заставило палеостровского игумена переменить свое решение, если дело обстояло именно так.
По убедительному предположению Е. Д. Сусловой, Палеостровскому монастырю принадлежал рукописный Служебник середины XVII в. (РНБ, Софийское собр., № 936) со следующей вкладной записью: «184-го (1675/1676) году Шунского погоста поп Артемей Андреев отдал в дом Богородицы сию книгу Служебник по своей души грешной. Подписал своею рукою, по смерти поминать» (л. 5-18). Название монастыря в записи не указано, однако известно, что поп Шунгского погоста Артемий Андреев являлся вкладчиком Палеостровского Рождества Богородицы монастыря – его имя упомянуто в Палеостровском синодике. Вероятно, в Палеостровском монастыре хранилась и рукопись конца XIX в. с Житием Василия Нового (БАН, собр. Александро-Свирского монастыря, № 23): на л. 2-7 здесь содержатся записи 1885-1888 гг. о выплатах разным лицам, нанятым в Палеостровский монастырь работниками.
Наконец, в Палеостровском монастыре имелись и, вероятно, переписывались рукописи с вышеназванными сочинениями о Корнилии Палеостровском. Так, в списке ГИМ, собр. Барсова, № 863 содержатся запись 1839 г. о принадлежности рукописи Палеостровскому монастырю и краткий список монашествующих…»
Источник: Кижский вестник. Выпуск 18: Сборник статей // Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск. 2019.
По материалам статьи: Пигин А.В. (г.Петрозаводск) «Книжные собрания и литературные памятники монастырей на Онежском озере» на сайте музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru
Расположенный на острове Палей в северной части Онежского озера мужской Палеостровский монастырь, один из древнейших в Олонецкой епархии, не раз привлекал внимание историков: одни решали запутанный вопрос о времени его основания, другие изучали, как складывались обширные монастырские земельные владения, третьих интересовали трагические события, происходившие на Палеострове в последней четверти XVII в., когда обитель дважды пострадала от рук ревностных защитников «древлего благочестия».
Наиболее полным исследованием по истории Палеостровского монастыря остается книга Е.В. Барсова, изданная в 1868 г. Она не утратила своего научного значения во многом благодаря приложенной к ней описи монастырского архива, который впоследствии рассеялся по разным хранилищам, и публикации большей части его бумаг. Из-за недостатка письменных источников Е.В. Барсов мало касался событий XVIII в. Документы этого периода, хранившиеся в обители (важнейшие из них – данные новгородских посадников, жалованные грамоты царей и митрополитов – лежали в казенном амбаре, устроенном под колокольней, стоявшей отдельно от церквей), сгорели во время страшного пожара 1793 г. Историк обнаружил и поместил в монографии только «несколько поступных записей о продаже монастырю мельниц по частям, на реке Ригнуксе, о уступке нескольких десятков саженей земли и небольших поженок окрестными доброхотодателями и неважные споры о владениях с разными лицами и местами». Не располагая фактическим материалом конца XVII и первой половины XVIII в., Е.В. Барсов заявлял, что они были «ничем особенным для монастыря не замечательны». Между тем именно в первой половине XVIII в. происходили важные перемены в судьбе не только этой северной обители, но и всего русского монашества в целом.
Вскоре после смерти патриарха Адриана (1700 г.) по приказанию Петра I был воссоздан Монастырский приказ. Отныне земельными и финансовыми делами монастырей распоряжалось государство, используя накопленные ими богатства в своих целях. Царь–реформатор считал, что «чин монашеский» к началу XVIII в. «во многая безчиния развратился», а потому его следовало основательно исправлять с помощью жестких ограничений и запретов. Новое законодательство о монашестве включало десятки указов. Вся жизнь чернецов до мелочей была поставлена под государственный контроль.
Обратим внимание на те законы, которые напрямую касались монашеских общин. Один из них – именной петровский указ от 28 января 1723 г. «о переписке в монастырях монахов, о непострижении их вновь и об определении на убылые места отставных солдат». Он требовал снова переписать всех, кто уже принял монашеские обеты (первая перепись состоялась в 1701 г.), и «впредь отнюдь никого не постригать». Возникавшие вакансии следовало заполнять «престарелыми и увечными солдатами». Тем самым монастыри по замыслу Петра I превращались в нужные для воевавшей страны богадельни и госпитали. Синодальный указ от 3 марта того же года подтверждал предыдущий и еще раз напоминал, чтобы «во всех епархиях нигде в монастырях как монахов, так и монахинь отнюдь никого без указу из Синода не постригали». Исключение было сделано только для «священников и диаконов вдовых, желающих монашества».
Следует упомянуть другой, не менее важный, указ Петра I от 31 января 1724 г., где государь подробно и наиболее последовательно изложил свои мысли о «происхождении и цели установления монашеского звания». Кроме общих рассуждений о том, каков был «образ жития монахов древних», закон содержал конкретные меры, «како нынешних (монахов. – Ю.К.) исправить». Существование монастырей оправдывалось только их пользой, приносимой для общества: в них отправлялись «отставные солдаты, которые трудиться не могут, и прочие прямые нищие». Число братьев в общине определялось в пропорции: один монах на двух–четырех больных или нищих. Монахи должны были жить в особых чуланах при больницах, настоятелям указывалось дважды в день обходить лазареты и следить за порядком в них. Необходимые для повседневной жизни вещи монастырские насельники получали у келаря – «потребные по уставу кому что». Законом предусматривались две «поварни», в которых еда готовилась отдельно для мирян и монашествующих. Если в монастыре находились монахи сверх «числа служения», они должны были «сами хлеб себе промышлять». Свободно выезжать из монастыря могли только настоятель, келарь и казначей «для нужд монастырских», остальным монахам требовалось «весьма выезд отсечь, ибо когда оставили мир, уже возвращаться в оной не надлежит».
По–видимому, воплотить в жизнь все перечисленные правила о монашестве не удавалось. Во многом этому помешала смерть Петра I. Его преемницы – Екатерина I и Анна Иоанновна – также издавали законы, продолжавшие «антимонашескую» политику государства. Так, в 1732 г. вышли дополнительные правила к «Духовному регламенту», в целом повторявшие предыдущие указы. Результатом жестких мероприятий, направленных на «исправление монашеского чина», стало его «совершенно крайнее умаление». Члены Синода докладывали: «ныне в монастырях и пустынях… иеромонахов, иеродиаконов и монахов весьма недостаточно, а в некоторых никого нет, в числе же наличных многие престарелые и убогие. а из отставных солдат и вдовых священников и диаконов к пострижению желателей почти никого не является». В 1740 г. было позволено постригать в монашество с разрешения епархиального архиерея священно- и церковнослужителей, семинаристов, разночинцев «с вольными паспортами», крепостных крестьян с «отпускными за помещичьей рукой». При Екатерине II постриги снова стали возможны только по указу Синода.
Преобразования в церковной сфере не миновали Палеостровский монастырь, который вместе с другими обителями Олонецкого края в XVIII в. переживал нелегкие времена. К счастью для исследователей, сведения по его истории в первое столетие так называемого синодального периода сохранились в составе коллекций разных государственных архивов. Чтобы выяснить, каково было состояние монашеской общины на Палеострове, в данной статье использованы документы из обширных фондов Новгородской духовной консистории (Государственный архив Новгородской области), Александро–Свирского монастыря (Архив Санкт–Петербургского института истории РАН), Олонецкой духовной консистории и Олонецкого губернского правления (Национальный архив Республики Карелия).
В нашем распоряжении есть самая ранняя ведомость о монашествующих Палеостровского монастыря за 1722 г. В этот год по приказанию Петра I проводилась очередная перепись всех живших в России монахов и монахинь – составлялись реестры, где «за настоятельскими руками» указывались имя, возраст, светский чин (для монахинь – «звание» отца или мужа), число лет с момента пострига, послушание. Палеостровское братство возглавлял 56-летний строитель иеромонах Кирилл (Чудинов). Монашеский постриг он принял в 1700 г., когда вышел знаменитый петровский указ, запрещавший чернецам «держать в келиях чернилы и бумагу». В управлении монастырем строителю помогали келарь монах Никандр (70 лет) и казначей монах Иона (59 лет). В монастырских церквах, кроме строителя, служил иеромонах Иаков (65 лет). Кроме них община включала еще 37 монахов в возрасте от 30 до 93 лет, из них два – схимника. В 1725 г. до Палеострова дошло очередное требование Новгородского архиерейского разряда о «непострижении на убывающие места в монашество без указу». В его получении расписались строитель иеромонах Иоасаф, келарь монах Варсонофий и казначей монах Феодосий. Как видим, по прошествии трех лет монастырское руководство полностью сменилось, но монашеская обитель была по-прежнему населена (в ее братство входили 32 человека, хотя многим из них было уже далеко за 60 лет).
В конце 20-х гг. XVIII в. на полном монастырском довольствии в палеостровской братии находились двое отставных солдат. Один из них, Афанасий Борисов, вел себя вызывающе, постоянно буянил, причинял монастырю «немало обид и убытки и коварство». Строитель игумен Авраамий в 1728 г. был вынужден просить новгородского епископа Феофана (Прокоповича) о переводе солдата, «имеющего неспокойное житие», в соседний Клименецкий монастырь.
Строгие правила в отношении монашества повсеместно нарушались, несмотря на неоднократные предупреждения светских и духовных властей. Монастырское начальство, доведенное до крайнего отчаяния бессмысленными на его взгляд запретами, решалось на противоправные поступки, чтобы хоть как-то пополнить исчезавшую на глазах братию: дряхлые старцы умирали один за другим, а вместе с ними угасала сама монашеская жизнь. В 1736 г. в Палеостровском монастыре при проверке, «твердо ли хранится» закон, выяснилось, что сразу семь человек стали монахами «без указа». Все они приняли монашество в разные дни 1727 г. Один из них, монах Измаил (Поляков), «природою города Смоленска», был пострижен 11 февраля строителем игуменом Авраамием, остальные – сменившим его иеромонахом Иаковом. Помимо названного Измаила, до монашества служившего в пехотном полку, «безуказные» монахи являлись местными уроженцами и крестьянами: Протасий – Толвуйской волости, Дорофей и Евфимий – дворцовой Кижской волости, Виктор – дворцовой вотчины Пудожской волости, Иоасаф – Алмозерской волости Вытегорского погоста, Аарон – Заозерской вотчины Шуньгского погоста. Какова дальнейшая их судьба?
Из ведомости, представленной в Новгородскую духовную консисторию, узнаем, что монахи Евфимий и Аарон умерли (соответственно 5 мая и 19 сентября 1734 г.), остальные монахи были расстрижены и отправлены в Смоленскую губернскую и Олонецкую воеводскую канцелярии «для определения на прежнее жилище». Игумен Авраамий, с которого по закону следовало взять штраф 10 руб. за один незаконный постриг, в то время был уже архимандритом в Иверском Богородицком монастыре. Другой провинившийся строитель иеромонах Иаков не дожил до проверки (скончался 2 февраля 1728 г.), «скарбу и денег от него не осталось».
За следующие два десятилетия большая часть монахов Палеостров–ского монастыря умерла. Ведомость 1741 г. сообщает уже о семи насельниках: строителе–иеромонахе, келаре, казначее и четырех простых монахах. К середине XVIII в. их стало еще меньше. Е.В. Барсов, скорее всего, не работал с описью Палеостровского монастыря, составленной в 1755 г. после смерти строителя монаха Виталия. Из нее мы узнаем, что в тот год «при монастыре братии схимонах Савватий, монах Феларит, монах Мелхиседек, да служителей бельцов Потап Максимов, Артемей Ияковлев, Клим Григорьев, Июда Ияковлев, Михей Иванов». Другими словами, в монастыре находились только трое простых монахов, без священного сана. Очевидно, в его деревянных церквах Рождества Богородицы и пророка Илии временно служили священники из ближайших приходов. Добавим, что в 1757 г. «на монастырском хлебном и денежном довольствиях» на Палеострове жил отставной солдат Алексей Соколов.
В ходе секуляризации монастырской собственности при Екатерине II Палеостровский монастырь был выведен за штат «безо всякого пособия от правительства». В 1768 г. указом викарного епископа Олонецкого и Каргопольского Антония трое монахов из него – Арсений, Виссарион и Феофилакт – переводились «в штатное число» в третьеклассный Александро–Ошевенский монастырь (Каргопольский уезд), к тому времени практически обезлюдевший (когда в 1763 г. потребовалось отправить кого–либо из иеромонахов в приписанную Хергозерскую пустынь, выяснилось, что «посылать для службы некого», так как в самом Александро–Ошевенском монастыре «службу исправляет вдовой священник Иоанн Меркурьев»). Таким образом, спасая штатную обитель, епархиальное руководство было вынуждено жертвовать благополучием другой, заштатной.
В 1783 г. бывший палеостровский игумен Антоний просил викарного епископа Виктора перевести его в Александро–Свирский монастырь «в число братства». Архиерейское разрешение было получено, но свирский архимандрит Варлаам отвечал, что в его монастыре «имеется полное штатное число иеромонахов», поэтому принять игумена он не сможет.
В 1788 г. проводилась очередная перепись священников и церковных служителей Олонецкого наместничества. Ее главная цель заключалась в том, чтобы выявить клириков, живших «за штатом» при приходских церквах в каждом из уездов. На имя правителя наместничества статского советника Афанасия Ивановича Чирикова в течение года поступили рапорты от всех уездных земских исправников с приложенными к ним поименными списками, при создании которых учитывались даже грудные младенцы мужского пола. Особо следовало указать, «не имеется ли какой неизлечимой болезни или повреждения членов» у тех, кто находился «за штатом». В поле зрения составителей ведомости по Петрозаводскому уезду по непонятной причине попал и Палеостровский монастырь, «состоящий на своем пропитании». Благодаря этому известно, что на Палеострове оставалось всего три старца: строитель иеромонах Корнилий (67 лет), монахи Феофилакт (83 года) и Арсений (67 лет). Также при монастыре находились «под искусом присланный при указе» пономарь Иван Малафеев, «за штатом» определенный «для пропитания» пономарь Федот Михайлов (с уточнением, что у него «не имеется нескольких зубов») и его «во всем здоровых» шестеро малолетних сыновей.
При следующем строителе иеромонахе Симоне, в 1793 г., Палеостровский монастырь полностью сгорел. В течение пяти лет после пожара построили только самое необходимое: церковь Рождества Богородицы, совсем небольшая по сравнению с прежней (ее поставили на месте сгоревшей часовни, над мощами преподобного Корнилия Палеостровского), настоятельские и братские кельи, вокруг них деревянную ограду. Для четверых человек, живших на Палеострове (иеромонах Симон, монахи Феофилакт и Иосиф, послушник Иван Петров), этого было вполне достаточно.
В самом конце XVIII в. Палеостровский монастырь по-прежнему являлся «малобратственным». Как свидетельствует ведомость за 1800 г., под руководством строителя иеромонаха Игнатия «в надежде пострижения» в нем «подвизались» вдовые священник Дмитрий Матфеев (при нем находился его сын Петр) и диакон Петр Гаврилов, а также монах Иосиф, послушники Иван Иванов и Иоаким Дмитриев, «определенные по указу для обучения из церковников» Петр и Алексей Федотовы. Любопытно, что братья Федотовы – сыновья дьячка соседнего Толвуйского прихода – до поступления в Палеостровский монастырь безуспешно пытались учиться в Новгородской духовной семинарии («оказались великовозрастны и слабых способностей»).
Итак, на примере Палеостровского монастыря очевидны губительные для российского монашества последствия «антимонастырской» политики, начатой Петром I. Принимавшиеся законы значительно сократили число монастырей и их насельников, но не способствовали «оздоровлению» монашеской жизни. Мы видим, как на протяжении XVIII в. община на Палеострове уменьшалась из года в год: от нескольких десятков монахов в начале столетия до считанных единиц в его конце. На место умиравших иноков переводились вдовые или заштатные священники, диаконы, церковные служители; для присмотра за хозяйством селились «бельцы», т.е. миряне; отставные солдаты, жившие в монастыре, причиняли немалое беспокойство прочим насельникам. Характерным признаком кризисной ситуации была частая смена монастырского руководства – строителя, келаря и казначея.
Обезлюдевший и разоренный сильным пожаром в середине 90-х гг. XVIII в., Палеостровский монастырь пришел в упадок и, вполне вероятно, находился на грани своего исчезновения. Перемены в государственной политике спасли его от закрытия и дальнейшего преобразования в приход. В царствование Павла I в истории русского православного монашества началась новая эпоха, когда многие обители стали возрождаться с помощью частного капитала. Заштатные монастыри, включая Палеостровский, стали получать «милостинное подаяние» от государства и постепенно вернули себе большую часть своих прежних земельных владений.
Источник: Кижский вестник. Выпуск 13: Сборник статей // Под науч. ред. И.В. Мельникова, В.П. Кузнецовой. Карельский научный центр РАН. - Петрозаводск. 2011
По материалам статьи: Кожевникова Ю.Н. «Палеостровский монастырь и «антимонашеская» политика государства в XVIII веке» на сайте музея-заповедника «Кижи»
https://kizhi.karelia.ru/library/kizhskij-vestnik-vyipusk-13-sbornik-statej/1087.html





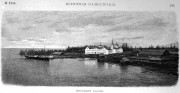



Комментарии и обсуждение