В 1958 году в Ипатьевском монастыре был организован историко-архитектурный музей-заповедник, к которому была отнесена и часовня в Некрасове. В этом году из монастыря выселили сотни живших в монастырских строениях, семей, после чего начались широкомасштабные реставрационные работы в бывшей Святой обители. В 1959 году началась также реставрация и часовни на Святом озере.
К этому времени часовня уже более 35 лет стояла закрытой. Была давно разобрана ограда, шатер покрывало проржавевшее железо, но внутри часовни сохранялось все убранство, бывшее в ней на момент закрытия. Реставратор В.Г. Брюсова, вдвоем с помощником, начавшая реставрацию стенописей часовни, писала, что в 1959 голу, «до начала реставрационных работ, восточная стена часовни и часть южной и северной стен были закрыты иконостасом простой столярной работы, окрашенным алюминиевой краской. Интерьер часовни был загроможден предметами церковной утвари: киотами, хоругвями, аналоем и т. п. На иконах были повешены гирлянды бумажных цветов, пелены и всевозможная мишура. Перед иконостасом посередине был установлен крест с живописным изображением на лицевой стороне Распятия, а на тыльной стороне — Николая чудотворца, XVIII века».
О том, что предшествовало реставрационным работам, мы узнаем из того же отчета реставратора В.Г. Брюсовой: «Было принято решение очистить помещение от культовых предметов, не имеющих художественной и исторической ценности. Был разобран иконостас, поскольку он закрывал собою фресковую живопись и внешним видом вносил диссонанс в оформление интерьера часовни». Не будем осуждать эти действия — они были вызваны реалиями времени и не могли быть другими. Взамен вынесенной утвари были поставлены леса, и реставраторы В.Г. Брюсова и В.И. Федоров приступили к расчистке и укреплению часовенной стенописи.
Дальнейшая судьба вынесенного из часовни убранства не совсем ясна. По рассказам, Животворящий крест и иконы были перенесены к одной из женщин, в доме которой, таким образом, была устроена как бы часовня. Потом, согласно этим же рассказам, к хозяйке дома «приехали из города» (кто именно приехал — милиция, представители советской власти, работники музея-заповедника, — выяснить не удалось) и все предметы из часовни забрали (в настоящее время главная святыня часовни — Животворящий крест — находится в фондах Костромского музея-заповедника).
К началу реставрационных работ стенопись внутри часовни, особенно на сводах, была покрыта слоем копоти, так что живопись сквозь черноту просматривалась слабо. Работы по расчистке и укреплению живописи, продолжавшиеся с 1959 по 1961 годы, фактически привели к открытию уникальных часовенных стенописей, состоящих из расположенных в четыре яруса двадцати многофигурных композиций, обрамленных снизу традиционными «полотенцами». Как уже писалось, подавляющее большинство фресок посвящено сюжетам явления и чудес Феодоровской иконы Божьей Матери (обретение иконы князем Василием Ярославичем, принесение иконы в костромскую соборную церковь, моление князя перед иконой и т. д.). Есть в часовне и фреска, изображающая битву с татарами. В.Г. Брюсова описывает ее так: «На первом плане — князь Василий Ярославич, у его ног — поверженные татарские воины. На заднем плане — воин держит икону Богоматери, от которой исходит (...) огненное пламя. Справа — вздулось горой озеро».
В ходе реставрационных работ был открыт ряд деталей первоначального убранства часовни: «После удаления иконостаса, в юго-восточном и северо-восточных углах в кладке были обнаружены специальные пазы для установки тябл для крепления икон иконостаса. В соответствии с этим принято решение установить на восточной стене часовни тябловый иконостас: тябла расписать по мотивам древних орнаментальных росписей», — писала В.Г.Брюсова.
В 1960-1961 гг. работы на стенописях продолжили и довели до конца костромские художники-реставраторы Г.Б. Губочкин, Е.В. Ильвес и А.М. Малафеев. В 1961 году были также проведены и общие реставрационные работы на часовне, выполненные по проекту Л.С. Васильева: с шатра часовни была удалена поздняя металлическая обшивка, произведена вычинка кладки, часовня была побелена, а ее металлические элементы — главка, ставни на окнах, входная дверь — выкрашены в зеленый цвет. При снятии металлической обшивки на гранях шатра обнаружились нанесенные на известковую обмазку декоративные шестиконечные звезды. Звезды этих двух цветов — желто-охристого и серо-голубого — были расположены рядами и по размеру убывали снизу вверх. От какого точно времени сохранились они на шатре, сказать трудно, но примечательно, что такие же шестиконечные звезды были и на поздней металлической обшивке шатра.
Раскрытие восьмигранного каменного шатра и побелка вновь вернули часовне былое главенство в пейзаже Святого озера. В первые годы после реставрации отражавшийся в глади озера белый силуэт часовни Животворящего Креста был виден издалека и, как прежде, «словно магнит» притягивал к себе туристов и паломников.
С 1961 года часовня в Некрасове, числясь за музеем-заповедником, фактически стояла заброшенной. Все планы по ее музейному использованию так и остались на бумаге. Не осуществились и планы восстановления внутреннего облика часовни, близкого к первоначальному, — на расписанные в старинном стиле тябла, установленные во время реставрации, так и не было поставлено ни одной иконы.
Более того, примерно через год после завершения реставрационных работ в дверях был взломан замок, и древняя часовня превратилась в место, где пьянствовали, жгли в холодное время костры и справляли различные нужды местные хулиганы. Только года через два все эти безобразия пресекли, и дверь в часовню наглухо закрыли.
За минувшее с начала 1960-х годов время огромный ущерб был нанесен почти всей историко-природной среде Святого озера. В конце 1960-х годов вырубили большую часть замечательной дубовой рощи у озера, на месте которой встали постройки 2-й передвижной механизированной колонны, только несколько старинных дубов и вязов уцелело по обе стороны от окружающего территорию ПМК-2 забора из железобетонных плит. В 70-80-е годы разрастающийся город протянул вдоль древней дороги к озеру линию низкокачественных панельных домов. В эти же годы за озером, у развилки дорог, в непосредственной близости от часовни Животворящего Креста встали громоздкие бетонные стеллы с названиями двух местных колхозов — «Дружба» и «Новый путь» (бывшие «Огородник» и «За новую жизнь»). Десятилетие за десятилетием по дороге, ответвляющейся от главного шоссе и проходящей на расстоянии буквально двух метров от часовни, грохочет, сотрясая старинную постройку, тяжелый транспорт...
Историки не раз называли Святое озеро с его окрестностями «Куликовым полем костромского края». Это определение тем более верно, если мы вспомним послереволюционную судьбу и настоящего Куликова поля, и Бородинского поля, и места, где произошла Невская битва. Ведь и там везде так же закрывали, ломали, взрывали памятные монастыри, храмы, часовни, так же уродовали природную среду, и так же десятилетиями пребывали эти святыни России в постыдном запустении. Лишь в самое недавнее время — чуть более десяти лет — начался в этих местах процесс возрождения. Совсем недавно этот процесс пошел и на Святом озере.
3 ноября 1989 года впервые за последние семь десятилетий в Троицком соборе Ипатьевского монастыря состоялась служба, проведенная костромским епископом Александром, а вскоре вопрос встал уже и о возрождении Ипатия как действующего монастыря. В апреле 1992 года примыкающей к монастырю слободе было возвращено ее историческое имя — Ипатьевская слобода. Рано или поздно реальный процесс перемен должен был коснуться и Святого озера, издавна почитавшегося как место совершения одного из самых известных чудес Феодоровской иконы Божьей Матери.
«Прорыв» произошел в августе-сентябре 1992 года, когда по инициативе работников Костромского районного отдела культуры было решено отметить 730-летие битвы с татарами церковными службами.
30 августа, в воскресенье, у часовни Животворящего Креста прошел первый за почти четыре десятилетия молебен, проведенный о. Владимиром, настоятелем Петропавловской старообрядческой церкви из соседней деревни Стрельниково. В службе участвовал знаменитый стрельниковский церковный хор, наряду со старообрядцами присутствовало много местных жителей.
Через несколько дней, в субботу, 5 сентября, у часовни произошло еще одно несравненно более торжественное богослужение, проведенное — впервые с 1909 года — главой Костромской епархии, епископом Александром. В панихиде, отслуженной епископом, приняли участие многочисленные представители костромского духовенства, а также монахини возрождающегося Богоявленского монастыря во главе с игуменьей Иннокентием. «По чину служба была очень высокой, — писал корреспондент «Северной правды», — но получилась она камерной и — да простится мне столь неторжественное слово — уютной. Самому завзятому атеисту, для которого переступить порог церкви все равно, что нелегально перейти границу, трудно было бы найти слова упрека для этого богослужения под открытым небом. Ритуальные облачения священнослужителей, резной аналой, мягко погрузившийся в зеленую травку, язычки пламени на свечах, сгибающиеся в поклонах под напором легкого ветерка и вновь распрямляющиеся, плавное течение церковных песнопений без видимых глазу границ сливались единой гармонией с широким лугом и высоким небом».
Проведение обеих служб явилось событием поистине историческим, рубежным, переломным, явилось важнейшим шагом к возрождению этого места. Юбилей и возобновление служб ускорили и решение вопроса о возвращении озеру и селению на его берегу их исторических названий. 30 сентября 1992 года состоялся сход жителей Некрасова, посвященный вопросу, прямо противоположному тому, который решали граждане Святого на сходах 1924 года. Конечно, между этим сходом и сходами 1924 года большая разница — ну хотя бы потому, что тогда жители по вполне понятным причинам боялись прямо высказываться против переименования и споры велись только вокруг того, как именно переименовать, хотя и общего, несмотря на минувшие семьдесят лет, оказалось немало.
Стоит упомянуть, что Н.А. Некрасов не раз проезжал через Святое, направляясь из Грешнева в Кострому, но ведь, охотясь, например, в куниковских и мисковских местах, он посещал десятки сел и деревень, которые при желании можно было бы с таким же успехом переименовать в честь поэта. Спустя много лет, когда обстоятельства переименования Святого уже забылись, само название «Некрасово»послужило причиной появления полулегенд о том, что Н.А. Некрасов был как-то связан с поселением на Святом озере. Н.К. Некрасов, внучатый племянник поэта и автор нескольких книг о нем, в частности, пишет: «Возвращаясь с охоты из Мазаевых мест, Некрасов любил отдохнуть в березовой роще у озера, на берегу которого стояла старая часовня (она сохранилась до наших дней, находится в деревне Некрасово)». Такой отдых Некрасова у озера, конечно, мог иметь место, хотя никаких докуметальных подтверждений ему нет, и все это вытекает лишь из желания как-то объяснить нынешнее название деревни.
Здесь уместно вспомнить, как были переименованы несколько других населенных пунктов, связанных с Некрасовым и расположенных в относительной близости от Святого. Вспомним: в начале 1938 года, когда отмечалось 60-летие со дня смерти Н.А. Некрасова, село Грешнево — по сути, родина поэта — в духе господствовавших тогда представлений об «увековечивании памяти»было переименовано в Некрасово, а находившееся на правом берегу Волги село Большие Соли, районный центр Ярославской области, — в село Некрасовское (ныне — поселок Некрасовское). Таким образом, между Ярославлем и Костромой появилось три населенных пункта, переименованных в честь поэта: два Некрасова (б. Святое и б. Грешнево) и одно Некрасовское (б. Большие Соли).
В 1986 году здравый смысл отчасти восторжествовал: указом Президиума Верховного Совета РСФСР Грешневу было возвращено его исконное, дорогое для каждого культурного человека имя. Нет сомнения, что рано или поздно вернутся к нам и Большие Соли, и Святое.
https://kostromka.ru/kostroma/land/Из истории Костромы/Н. А. Зонтиков/На Святом озере.






















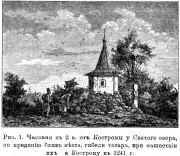



Комментарии и обсуждение