Церковь Рождества Богородицы в Боголюбове, по всей видимости, была центральным, наиболее высоким и наиболее богато декорированным сооружением княжеского белокаменного замка. Храм был возведен из белого камня гораздо более высокого качества, чем остальные постройки.
Рассмотрим вопрос датировки храма. «Краткий Владимирский летописец» говорит: «И потом приде от Киева Андрей Юрьевич и сътвори Боголюбивый град и спом осыпа, и постави две церкви камены». В том, что в этом сообщении речь идет про церкви Рождества Богородицы в Боголюбове и Покрова на Нерли, сомневаться не приходится, так как Новгородская I летопись сообщает: «И постави ей (Богородице – С.З.) храм на реце Клязме, две церкви каменны во имя святыя Богородица». Следовательно, оба летописных текста четко связывают основание города Боголюбова и строительство церквей Рождества Богородицы и Покрова. А Новгородская IV летопись дает однозначную дату основания Боголюбова – 1158 год. То, что арка ворот и переход были «приложены» к северной стене церкви, заслонив аркатурно-колончатый пояс, также свидетельствует, что Рождественская церковь была первым зданием всего Боголюбовского ансамбля.
Наша позиция подтверждается еще одним летописным сообщением – Владимирского летописца (XVI век). Под 1158 годом в нем говорится: «Cии же князь Ондреи Боголюбовныи град спом осыпа, постави ту церковь камену Рожество святеи Богородици на Клязме реке, а другую Покров святеи Богородици на Нерли, и устрои монастырь». А учитывая то, что в погодном летописании термин «поставить» чаще всего означал строительство в течение одного года, и многие храмы подобного масштаба действительно возводились в течение одного строительного сезона, мы обязаны принять 1158 год в качестве даты и Рождественской, и Покровской церкви.
В конце XVII века в церкви Рождества Богородицы были выломаны хоры и растесаны щелевидные окна. По-видимому, это ускорило разрушение храма: в 1705 и 1722 годах обрушились глава, своды и большая часть стен. В 1751 году остатки церкви были почти полностью разобраны. На их месте из белого камня (во вторичном использовании) и кирпича был построен новый храм, план которого практически точно повторил план церкви Андрея Боголюбского.
При перестройке западная часть северной стены, к которой примыкали арка ворот и переход, уцелела выше уровня хор, хотя и была перелицована со стороны интерьера. Факт перелицовки доказывается наличием в кладке блоков с «перевернутыми» насечками под штукатурку; блоков без насечек (соответственно, перетесанных, перевернутых либо перемещенных); маломерных вставок в кладку; неровно положенных блоков. Остальные стены сохранились на 2–3 ряда кладки. Таким образом, план церкви Рождества Богородицы нам известен. Храм был четырехстолпным, трехапсидным, несколько вытянутым с запада на восток (длина без учета апсид – около 13 м, ширина – около 10 м). Сторона подкупольного квадрата – в среднем 4,5 м. Храм имел не крестчатые, а круглые столпы (их остатки уцелели и были открыты раскопками Н.Н. Воронина).
Лопатки храма имели полуколонны посередине и четвертные колонны по сторонам, угловые лопатки были объединены угловой трехчетвертной колонной, апсиды имели тонкие полуколонки-тяги (четыре на средней апсиде и по две – на боковых). Цоколь храма был украшен аттическим профилем. Базы полу- и четвертных колонн лопаток также были украшены аттическим профилем и имели угловые «рога-грифы» («когти»). Отметим, что аналогичные «когти» встречаются в большом количестве романских и готических храмов Западной Европы.
Церковь Рождества Богородицы имела аркатурно-колончатый пояс (его остатки сохранились на западном прясле северной стены). Н.Н. Воронин на основании анализа фресок XVIII века с фигурами, частично прикрытыми северными пристройками к храму, показал, что на месте фресок XVIII века находились фрески XII века и, соответственно, аркатурно-колончатый пояс был расписан, как и на Успенском соборе во Владимире.
Вопрос о количестве глав храма решается просто – одноглавым он был изображен на иконе Боголюбовской Богоматери XVII века, ближайший к нему по стилю и пропорциям храм Покрова на Нерли также одноглавый. Но вопрос о пропорциях Рождественской церкви заслуживает отдельного рассмотрения.
Храм имел хоры («полати», с которых не принадлежавшие к православной конфессии гости Андрея Боголюбского должны были «видеть истинное христианство и креститься»). Северный вход на хоры из надвратного перехода сохранился; порог существующего проема находится на высоте 8,1 м от древнего пола церкви. Но в относительно близкой по размерам и пропорциям церкви Покрова на Нерли высота хор составляет всего 5,4 м. Соответственно, если предположить, что уровень пола хор Рождественского храма находился посередине между уровнем пола церкви и пятой подпружной арки, то высота храма должна была составить 19,2 м только до парусного кольца. Н.Н.
Воронин справедливо отмечал, что эта высота явно преувеличена, так как храм приобретал неестественно вытянутые вверх пропорции, и полагал, что хоры находились не на середине высоты столпов, а значительно выше – почти на двух третях высоты.
Мы обязаны полностью поддержать позицию Н.Н. Воронина относительно того, что хоры в церкви Рождества Богородицы находились значительно выше середины столпов, так как пропорции боголюбовского храма в реконструкции исследователя видятся абсолютно адекватными. К примеру, отношение ширины западного фасада к его высоте во владимирском Успенском соборе Андрея Боголюбского и в Дмитриевском соборе близко к единице, в церкви Покрова на Нерли – 0,85, в реконструкции Н.Н. Воронина – также 0,85.
То, что во владимирском Успенском соборе, церкви Покрова на Нерли и Дмитриевском соборе хоры расположены посередине столпов, ни в коем случае не является общей и обязательной системой для всех домонгольских храмов Северо-Восточной Руси (так, в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского и церкви Бориса и Глеба в Кидекше хоры находятся примерно на трех пятых высоты столпов). В храмах других древнерусских княжеств (Киев, Чернигов, Новгород, Псков и пр.) никакой общей и обязательной системы в высоте расположения хор также нет. Например, в соборе псковского Ивановского монастыря хоры находятся примерно на двух третях высоты столпов, в церкви Николы на Липне – примерно на одной трети, в черниговском Борисоглебском соборе – примерно на трех пятых, в черниговской Пятницкой церкви – примерно на двух пятых.
Таким образом, в отношении церкви Рождества Богородицы в Боголюбове мы принимаем реконструкцию Н.Н. Воронина, хотя и с определенной оговоркой. Дело в том, что существующий проем в северной стене церкви, ранее ведший на хоры с перехода над аркой, расположен существенно выше и существующего, и древнего пола перехода (примерно на 0,8 м). Это выглядит очень странно: почему полы перехода нельзя было изначально построить на уровне хор, зачем было делать в «парадном» проходе из княжеского дворца на хоры храма две–три «лишние» ступени вверх? Для ответа на этот вопрос мы можем выдвинуть гипотезу о том, что проем между переходом на хоры в его существующем виде – не дверь, а окно. Первоначально на этом месте была «полноценная» дверь, а когда в конце XVII века хоры были выломаны, то этот дверной проем, чтобы он не обрывался «в воздух», превратили в окно, заложив снизу двумя–тремя рядами камня. Возможно, превращение двери в окно было связано и с тем, что, как мы отмечали выше, со стороны интерьера северная стена церкви Рождества была перелицована.
Конечно, это лишь гипотеза, подтвердить или опровергнуть которую может только зондаж покрытой толстым слоем штукатурки нижней части существующего проема. Но в соответствии с этой гипотезой мы вправе реконструировать хоры церкви Рождества Богородицы XII века на высоте около 7,3 м. Это лишь на 1,9 м выше, чем хоры церкви Покрова на Нерли. А поскольку храм в Боголюбове больше храма Покрова (сторона подкупольного квадрата – около 4,5 м против 3,2 м, размеры без учета апсид – примерно 13 х 10 м против 8 х 7 м), то при принятии пропорций церкви Рождества Богородицы близкими пропорциям церкви Покрова хоры боголюбовского храма оказываются почти на середине высоты столпов. Впрочем, как мы показали выше, расположение хор на двух третях высоты столпов (по Н.Н. Воронину) также является абсолютно нормальным явлением, более того – усиливает «высотность» интерьера храма и подчеркивает его торжественность (низкие хоры, наоборот, создают ощущение «затесненности» интерьера и «давят» на находящихся в храме).
Судя по археологическим находкам в Боголюбове (резным женским и львиным маскам, голове зверя от белокаменного водомета), у нас есть все основания полагать вслед за Н.Н. Ворониным, что храм имел примерно ту же систему зооантропоморфного скульптурного убранства, которая присутствует в церкви Покрова на Нерли. При раскопках в Боголюбове была найдена мелкая зооморфная скульптура, следовательно, базы колонок аркатурно-колончатого пояса церкви Рождества могли быть не только клинчатыми, но и зооморфными, как базы колонок церкви Покрова. Храм имел перспективные порталы. Их колонки были гладкими, а архивольты, вероятно, были украшены резьбой.
Рассмотрим вопрос о притворах церкви Рождества Богородицы. В «Повести о смерти Андрея» говорится, что тело князя было положено в притворе. Но никаких остатков притворов масштабные археологические исследования не обнаружили. В связи с этим Е.Е. Голубинский предполагал, что западный притвор представлял собой открытую паперть, Д.И. Иловайский – что у храма был открытый «портик», Н.Н. Воронин – что западный притвор мог представлять собой открытый с трех сторон «балдахин», опиравшийся арками на стену собора и два столпа. Однако все эти предположения были весьма произвольными, и даже Н.Н. Воронин, выдвинув свою версию вида и расположения притвора, не счел возможным отразить его на своих реконструкциях храма.
Мы позволим себе выдвинуть собственную версию того, о каком притворе шла речь в «Повести». Во-первых, положение тела убитого князя в открытом притворе (хотя бы и под «балдахином») было практически равнозначно оставлению его на улице на всеобщее обозрение, а логика «Повести» говорит о том, что тело было внесено в некое помещение, где через два дня его увидел игумен Арсений и настоял на отпевании. Во-вторых, открытый белокаменный притвор (хотя бы и в виде «балдахина») должен был бы иметь фундаменты под столпами, а поскольку весьма детальные раскопки не открыли эти фундаменты, то вероятнее всего, что их никогда не существовало. В-третьих, для четырехликой капители, которую Н.Н. Воронин относил к гипотетическому открытому притвору, мы вслед за Г.К. Вагнером определили более вероятное и логичное место.
В связи с этим напрашивается следующий вывод: храм имел закрытый притвор, но не белокаменный, а деревянный (археологические исследования при столь сложной стратиграфии практически неспособны обнаружить остатки таких притворов). Между постройкой церкви и дворца (конец 1150-х – начало 1160-х годов) и убийством Боголюбского (1174 год) прошло около пятнадцати лет, и неудивительно, что белокаменный замок в условиях процветания Суздальского великого княжества при Андрее Юрьевиче (т.е. в полной безопасности от нападений внешних врагов) постепенно «оброс» множеством деревянных пристроек утилитарного характера (чем, как правило, являются притворы для храмов). Эта ситуация для Древней Руси абсолютно типична.
В заключение вспомним слова летописи: «Сый благоверный и христолюбивый князь Андрей уподобися царю Соломану, яко дом Господу Богу и церковь преславну святыя Богородицы Рожества посреди города камену создав Боголюбом и удиви ю паче всих церквии… и створи церковь сию в память собе». И действительно, память об Андрее Юрьевиче оказалась неотделимой от его уникального архитектурного ансамбля в Боголюбове: князь вошел в историю как Андрей Боголюбский.





 20 августа 2024
20 августа 2024
 28 марта 2025
28 марта 2025
 11 апреля 2025
11 апреля 2025
 7 мая 2025
7 мая 2025
 4 ноября 2025
4 ноября 2025
 10 ноября 2025
10 ноября 2025



































































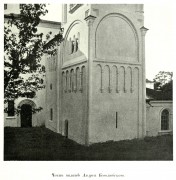
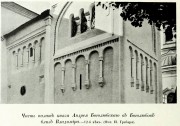






Комментарии и обсуждение
Заграевский С.В. Боголюбовский архитектурный ансамбль конца 1150-х–начала 1170-х годов: вопросы истории и реконструкции. В кн.: Памяти Андрея Боголюбского. Сб. статей. Москва – Владимир, 2009. С. 141–167.